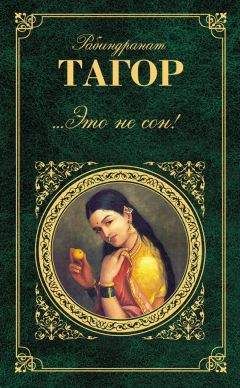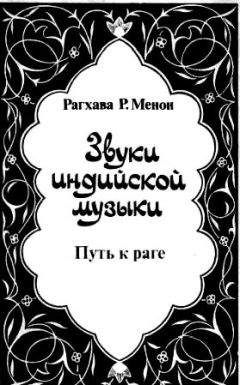Юрий Калещук - Непрочитанные письма
Я был изрядно растерян от неожиданного для меня красноречия сына; нет, стоило, стоило забраться вместе за Полярный круг — хотя бы ради того, чтобы ощутить тепло крохотного огонька, чтобы начать понимать друг друга — не то что в долгих, изматывающих и бесплодных спорах в тесной квартирке напротив Савеловского вокзала; ответил я не сразу:
— Конечно, Серый. Обо всем надо писать — о хорошем и о дурном, о прекрасном и омерзительном. Только, знаешь, есть одно правило: писать можно, лишь когда испытываешь сострадание, — и нельзя позволить ни единому слову вырваться на бумагу, если на нем хотя бы крохотная тень злорадства или равнодушия. Постарайся понять этих людей. Не ищи злой умысел в их просчетах, не торопись осуждать промахи — попробуй понять, откуда, как и почему возникают ошибки. Вероятно, для этого необходимо лучше, ближе знать то, о чем ты собираешься писать... Понимаешь, что я имею в виду?
— Понимаю.
— Дорого бы я дал, Серый, чтобы ты действительно понял это...
Обратно мы добирались на перекладных; уже вблизи от города проехали узкий горбатый мост, внизу мелькнул песчаный холмик с самодельным обелиском, и ель рядом росла — внезапная в этой расквашенной пустоши.
— Кто здесь погиб? — спросил я. — Шофер?
— Катерник, — ответил водитель.
Какие катера могут плавать по этой речушке, да и не речушке вовсе, а так, ручейку, не успел подумать я, как водитель пояснил:
— Мужик с «Катерпиллера». Соскользнул с наледи — и гробанулся вниз. «Катером» его прижало... — Помолчал немного, потом добавил: — А похоронили его друзья. Они и ель посадили...
Показался город — раскидистый, обнаженный, беззащитный, открытый любому глазу. Распластанный железной дорогой, окруженный непоседливыми барханами, он норовил обособиться в замкнутые хутора, словно ждал нашествия то ли гигантских муравьев, то ли песчаных бурь; хутора были пятиэтажные и девятиэтажные, кое-где промеж домов виднелись деревья, но они сами нуждались в защите, даже слабой, жиденькой тени они не давали.
— Только гоняют их постоянно, — вздохнув, продолжал водитель. — Тут, мол, дорога будет и все такое... И, как нарочно, рядом все какие-то дела затевают. Ну, а друзья его, «катерника» этого, в третий раз уже могилу переносят. Вместе с елью...
У меня перехватило дыхание. Господи, подумал я, пока существуют на свете такие люди, как друзья погибшего «катерника», мир не провалится в тартарары, не исчезнет в небытие, что бы мы с ним ни вытворяли...
Улетел я через неделю. Рейс был ночной, Сергей и Марина решили проводить меня, я отговаривал их — поздно, автобусов уже нет, как доберетесь и прочее, — но они были непреклонны. По счастью, самолет улетал вовремя. Мы наскоро попрощались, однако они не ушли: когда нас загнали в какой-то вольер для досмотра, — я видел их, они висели на лестнице и заглядывали вниз, в кипящую толпу. И когда шел к самолету — видел. И когда сидел в салоне — видел: они стояли у низкого забора, всматривались в белый сумрак и обреченно размахивали руками, отбиваясь от закаленных, испытанных в боях, настырных комаров... Дернулась огромная туша ТУ-154, и в блистере поплыли назад, отдаляясь, ломкие фигурки моего сына и его невесты, и странное чувство, тревожное и радостное одновременно, промелькнуло во мне: я улетал, а они оставались, оставались на земле, которую я привык уже считать своею; мне еще возвращаться и возвращаться сюда, но случится ли снова вернуться, когда они будут ждать меня и вновь провожать?..
К середине августа практика закончилась, Сергей и Марина прилетели в Москву, а через месяц произошло то, чему давно суждено было случиться. Еще в начале первого курса, когда у Сергея был спецсеминар по фотоделу, я обратил внимание, что на его чудовищных, дурно наведенных на резкость, неумело отпечатанных снимках постоянно фигурирует — на фоне или памятника Ломоносову, или рядом с витой решеткой, или на широкой лестнице, или просто на улице — одно и то же застенчивое личико с умными, немного грустноватыми глазами. «Кто это?» — спросил я. «Это?..» — сын наморщил лоб, изображая мучительный процесс припоминания, но в его шепоте, последовавшем после длительной паузы: «Это Марина», — уже начинали звучать первые такты мендельсоновского марша. За суматохой, предшествовавшей свадьбе, за последовавшими за нею хлопотами иного, уже непраздничного свойства полярное лето отодвинулось далеко-далёко; о Новом Уренгое они не вспоминали, а когда я начинал расспрашивать их о том, что еще удалось им увидеть и сделать, сумели они написать свой полуполосный очерк «Обитаемый остров» или нет, Сергей отвечал уклончиво, а Марина вообще молчала, по своему обыкновению застенчиво улыбаясь.
Наконец, я не выдержал и спросил напрямик, каковы их дальнейшие планы, — учиться осталось всего ничего, каких-то полтора года, пора всерьез подумать о будущем, о ремесле, о профессии и о том, как и где лучше найти себя; всякий раз, когда я произносил эти или похожие слова, возникало ощущение, будто жуешь сосновую щепку — от смолы вязнут зубы, а нёбо, исколотое занозами, распухло, онемело, обесчувствилось: я пытался заставить их звучать по-иному или подобрать другие слова, но не удавалось мне это, нет, не удавалось; сын, молча выслушав мою тираду, вдруг спросил:
— Когда ты едешь в Испанию?
— Кажется, через неделю... — В туристских поездках перестаешь принадлежать себе задолго до отправления поезда или отлета авиалайнера; кто-то определяет сроки, кто-то сдвигает их, намечает или изменяет маршрут; тебе остается лишь сдать требуемые бумаги и больше не думать об этом, — я и не думал об этом, пора было вновь собираться в Нягань, Макарцев почему-то не ответил на мое письмо, я не знал тогда, что происходило в Нягани летом, что происходило осенью, — обо всем этом мне предстояло узнать лишь зимой, в декабре, а пока был октябрь, была поздняя осень. — А что?
— А вы будете в Виттории? — Сын назвал маленький, ничем не примечательный городок на севере Испании.
— Вряд ли. Говорили, что у нас андалузский маршрут, а это на юг от Мадрида.
— Жаль...
— А почему ты об этом спрашиваешь?
— Понимаешь...
Сын начал путано, обрывистыми полуфразами, с долгими, выводящими из терпения паузами рассказывать, что четыре вечера в неделю он поет в хоре, а еще они дружат с рабочим хором испанского городка Виттория, испанцы уже приезжали в гости, в мае, по-видимому, и они теперь поедут «с ответным визитом», возможно, он тоже поедет, а для этого надо много репетировать, основательно готовить программу... Я слушал его с нарастающим раздражением. Я привык уже к тому, что за свою недолгую жизнь сын пережил ряд скоротечных увлечений: разумеется, собирал марки, — где теперь кляссеры с автомобилями и кораблями, птицами и самолетами? — учился французскому языку; «Ge m'appelle Serge» и — в тех же пределах — английскому: «Му name is Sergey», долее других длились занятия валторной, странным инструментом, похожим на медную воронку, скрученную в моток исполинской силой, — на память о тех днях осталась программка концерта гнесинской школы с карандашной галочкой против какой-то «Песни пастушка» в исполнении сына и то ли американский, то ли итальянский мундштук, выменянный сложным, неправдоподобным, непостижимым для меня путем на блок чуингвама, игрушечный полицейский автомобиль и некоторое количество монет, по времени и месту своего происхождения явно не относящихся к предметам коллекционирования, — но хор?!
— Какой хор? — проворчал я. — Какие четыре раза в неделю?! Да я в «Московский комсомолец» годами не могу тебя пропереть, чтобы ты за интервью, за репортажами бегал, ремеслу учился всерьез, постоянно, а не раз в год, на практике! Времени-то на раздумья нет уже. Пора решать, куда вы поедете работать. Насколько я понял, Сергей, северные дела небезразличны тебе...
Сын молчал.
— Коли так, надо себя к той жизни готовить...
Сын молчал.
— Во всяком случае, я убежден, — окончательно выходя из себя, заявил я, — что в Москве после университета вам делать нечего. Надо выбрать хорошее место — а для журналиста лучше, чем Север или Дальний Восток, найти трудно, — уехать туда лет на пять, нарастить опыт, как мускулы, выработать вкус к настоящему делу, обрести профессиональную уверенность. А сейчас... Ну, на что вы можете рассчитывать сейчас, с вашей-то профессиональной подготовкой и жизненным опытом, который в щепотке унести можно? Устроитесь в какую-нибудь заштатную контору, станете каждодневно выдавливать из себя, высасывать из пальца сто пятьдесят — двести строк об одном и том же или ни о чем, возненавидите весь мир, который не сумел оценить по заслугам ваших замечательных дарований, озлобитесь, друг друга перестанете выносить — зачем вам это? Зачем?!
Сын молчал. Зато заговорила его жена, кроткая и безгласная Марина. Ее голос я услыхал, кажется, впервые и потому воззрился на нее с нескрываемым изумлением.
— Почему вы решили, — чеканила она, — что Сережа должен ваш путь повторять, по вашим следам идти? Почему вы считаете, что мы не в состоянии сделать выбор сами? Что вы знаете о нас? Знаете ли вы, к примеру, что Сережа занимается стилистикой бунинской прозы и свою дипломную работу собирается писать именно об этом?