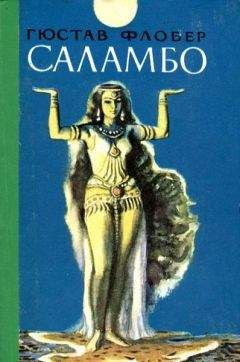Гюстав Флобер - 12 шедевров эротики
Когда Моника кончила перевязку, он закрыл глаза и заснул.
— У него жар, — сказал доктор, — оставьте его одного в абсолютном покое. Если захочет пить — немного воды с лимоном. В пять часов померьте температуру. Вот… Перед обедом я заеду еще.
— Будьте спокойны, — сказала Моника, — я его не покину ни на минуту.
Когда Амбра вместе с доктором на цыпочках вышли из комнаты, она молча уселась у изголовья, жадно вглядываясь в черты этого лица, облагороженного страданием. Она искала в них ответа. Его лицо!.. Перед ним померкло все прошлое. Хватит ли ее жизни, чтобы искупить жертву этого красивого, бескорыстного, готового все для нее отдать человека? Она чувствовала себя перед ним маленькой, ничтожной, запачканной; и в то же время опьяненная любовью душа горела безумной верой в обновление.
— Нет, молчите… Разговаривать с сиделкой воспрещается.
— Но я здоров!
— Вам только немножко лучше. Это большая разница. Я хотела взять книгу и сесть около вас, а если не будете слушаться — сейчас уйду.
Он огорчился, но она провела рукой по его голове и молча села. Открыв «Пармскую обитель», Моника задумалась.
Это было на шестой день после… «несчастного случая». Не странно ли, говорила она г-же Амбра, этот револьверный выстрел, прозвучавший как удар грома, вместо трагических последствий устраивает жизнь. Для Режи это было разрядом, обессилившим батарею. Вместе с выпущенной пулей отлетела от него вся его дикая ревность. Счастливого пути!..
С неизъяснимым чувством облегчения Моника думала, что сейчас он уже на пароходе по пути в Марокко.
Утром пришла записка от Чербальевой, подтверждающая это: «Г-н Буассело заходил на улицу Боэти и без всяких объяснений заявил, что в ее сердце не осталось к нему ни тени враждебного чувства, скорее снисходительная жалость». Режи не сумел сберечь ее любви — доказательством тому все его зверства. Он, правда, любил ее так, как никто до него не любил… Под его влиянием она бросила наркотики. Теперь, когда он уже был далеко, воспоминания его неистовств уже не вызывали возмущения. Она честно старалась разобраться в своих чувствах. Совпадали ли его упреки, которые ей тогда казались незаслуженными, с угрызениями ее собственной совести?
«Несчастный», — сказал Жорж, прощая его по своей доброте. Да, несчастный! Но на этом несчастье построено двойное счастье, и было бы неблагодарностью об этом забыть. Как она ни заглушала песни своего сердца, как ни старалась избегать умоляющего взгляда раненого — оба они были счастливы, как дети. Да, детское счастье! Чистая радость!
— Я все вижу, — сказала она, грозя пальцем Бланшэ. — Очень нехорошо пользоваться рассеянностью сиделки и постоянно болтать об одном.
— Я же молчу…
— А я все равно слышу. Дорогой, дорогой Жорж!
И эти дуэты продолжались ежедневно. Они повторяли одни и те же слова — бессознательно льющийся из сердца гимн счастья.
Зачем ему было клясться в любви? Мог ли дать человек более убедительное доказательство ее? Но именно эта внезапность их взаимной любви и пугала Монику. Мягкость, с которой он старался ее завоевать, — точно уже не завладел ею, — желание, чтобы она сама, своей волей пришла к нему — все это мучило Монику. Достойна ли она такой любви? Не отдает ли она ему уже увядшую душу и изношенное тело? Заслуживает ли она такого всеобъемлющего счастья? Его страсть покоряла ее больше своей робостью, чем силой.
Краснея, она опустила голову.
— Я боюсь, что вы любите не настоящую Монику, а другую, созданную вашей мечтой… Такая ли я, какой вы меня представляете? Иногда я говорю себе: да! Я возвращаюсь под вашим взглядом к детской чистоте, и мне кажется, что моего прошлого не было, что нет ничего, кроме будущего.
Он убежденно повторил:
— Не было и нет ничего — кроме будущего!
— О, если бы вы знали…
Разбуженные воспоминания терзали ее душу. Хотелось то обвинять себя, то оправдываться. Но она помнила, как дорого ей обошлась однажды такая откровенность. И старая ревность Режи предостерегала от опасности. Ее исповедь перед ним — тогда еще дружеская — заставила Монику так безумно страдать, когда он стал ее любовником… Но все же она должна была какой угодно ценой открыть свое прошлое Жоржу — человеку, который спас ей жизнь и тем самым получил право судить ее. Она мистически жаждала унижения как наказания за гордость. Бросившая однажды вызов мужской лжи и грубости, гордая холостячка снова превращалась в женщину, в слабую женщину, побежденную величием любви.
— О, если бы вы знали, — повторила она.
— Да, я знаю. Я знаю, что вы страдали, как все те, кто жаждет абсолюта. Я знаю, вы никогда никому не сделали зла, и только вам его делали другие. Все остальное — что мне до него? Ваше прошлое принадлежит вам одной. Для меня в жизни, а следовательно, в высшем ее проявлении — в любви — ценны лишь равенство и свобода. На человека, которого любишь, имеешь только те права, которые он сам дает, и только с той минуты, когда двое всецело отдадутся друг другу, могут возникнуть счеты между любящими.
Она его слушала, как грешница Христа.
— Я знаю о вас, Моника, одно: у вас была и есть гордая, красивая душа, устремленная ко всему тому, что пробуждает добрую, но несовершенную человеческую волю. Ваша стихия — справедливость, и страдание не унизило, но возвысило вас.
— О, если бы это было так!..
— Страдание пробуждает к жизни, Моника, оно губит ничтожных и закаляет сильных. Верьте мне. Все дурное позади — перед вами новая дорога.
— Как мне жаль, — вздохнула она, — как бы я хотела отдать вам девственное сердце, еще ни для кого не бившееся, кроме вас.
— Вы плачете?
— Да, я плачу о прежней маленькой Монике, об ее утерянной свежести, плачу о том счастье, которое могла бы испытать в первый раз, в ваших первых объятиях. Я плачу о маленькой Монике тети Сильвестры…
Нежный голос, полный безысходной тоски, проникал до глубины его сердца. Глаза его наполнились слезами.
— Не плачь… Умоляю тебя, не плачь! Неужели ты не знаешь, что в ослепительных лучах настоящей любви тают, как дым, все черные призраки? Не бойся ночных кошмаров! Мы только начинаем жить. Мы просыпаемся с утренней зарей.
— Любовь моя, — прошептала она.
Лицо ее, мокрое от слез, просветлело, как росистое утро. Он протянул руки, и она, склонясь над постелью, приникла к его груди своей грудью, защищенной, как щитом, белым больничным халатом. Никогда еще не испытанная стыдливость удержала ее от объятия. И обоим им в этот блаженный миг не пришло в голову отдаться сжигающей их страсти.
С сияющим лицом он ласкал ее бронзовые волосы, глядя в счастливое лицо: