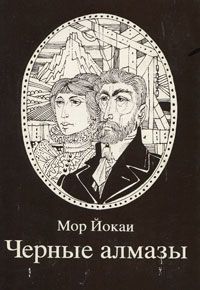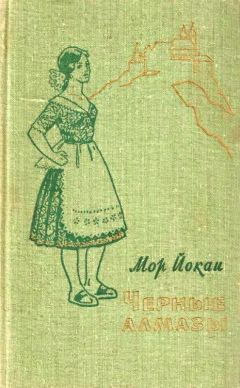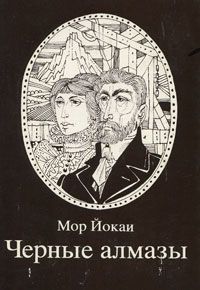Николай Семченко - Что движет солнце и светила (сборник)
— Желаю приятного вечера! — сказал Константин Аркадьевич и, не глядя на женщину, повернулся и неторопливо пошёл прочь. Спиной он чувствовал её недоумённый, обжигающий взгляд и, чтобы хоть как-то ответить, не обидеть, он пожал плечами, растерянно так пожал, будто хотел сказать: извини, я и сам не понимаю, что за дурацкое у меня настроение, ничего не поделаешь — прощайте, сударыня!
Женщина обидно, зло рассмеялась:
— Что, дамы не интересуют?
Он притворился, что не расслышал, хотя его так и подмывало вернуться назад и доказать, что эротические фантазии Эммануэль — бледная тень того, что он может преподать, особенно, если…
* * *А, чёрт! Глупость какая-то получается. Зачём я всё это сочиняю? Никакого Константина Аркадьевича не было, а был я — Авросимов Сергей Николаевич, сорока лет от роду, 172 сантиметра роста, вес — около семидесяти килограммов, глаза серые, скорее шатен, чем блондин.
А Константина Аркадьевича я выдумал, чтобы дорогая жена моя Зина, Зинулечка, Зинчик, Зинаида Максимовна, преподаватель истории русской литературы в гуманитарном колледже, думала: вот, мол, наконец-то этот оболтус всерьёз занялся беллетристикой, пишет нечто о любви, преданности, осмысливает непреходящие ценности и, значит, его душа просит покоя, умиротворенности и чего-то несуетного, тихого и постоянного.
Зинулечка искренне полагает, что классики только и знали, что писали свои выдающиеся произведения, ими владели лишь высокие думы и стремление досадить отрокам и отроковицам своими назиданиями, которые прилежная преподавательница заставляла знать назубок. Она не читала ни юнкерских поэм Лермонтова, ни «Царя Никиты» и «Гаврилиады» Пушкина, ни Мерзлякова, ни «Луки Мудищева», приписываемого Баркову, а если б даже и читала, то ни за что не согласилась бы, что изображенная в них любовь — это непреодолимая страсть, сметающая все препоны, дерзко нарушающая моральные устои и не поддающаяся логике рассудка.
Я специально сделал для Зиночки выписки из дневника её любимого Брюсова. Эту книгу мне дала почитать… а, впрочем, не всё ли вам равно, кто именно! И вот что писал, например, великий Валерий Яковлевич 14 декабря 1894 года: «Как-то недавно зашёл в бардак. В результате маленький триппер — это третий. Но как отношусь я к нему! Будто ничего нет… В какую бездну я пал!» А через несколько дней такая запись: «В четверг был у меня Емельянов-Коханский и увёл меня смотреть нимфоманку. Мы поехали втроём в нумера, и там она обоих нас довела до изнеможенья — дошли до „минеток“… Истомлённый приехал домой и нашёл письмо от другой Мани (ту — нимфоманку тоже звали Маней) и поехал на свидание…» Каков, а? Половой гигант! А ещё более великий Чехов, не стесняясь, описал Суворину свой половой акт с японкой, очень даже подробно, вплоть до такого: «Кончая, японка тащит из рукава зубами листок хлопчатой бумаги, ловит вас за „мальчика“ (помните Марию Крестовскую?) и неожиданно для вас производит обтирание, причём бумага щекочет живот…»
— Фу, — сказала Зина, — и где ты только это берёшь? А ещё считаешься приличным человеком…
Обо мне она думает, что я родился в штанах с ширинкой, зашитой суровой ниткой. Никаких серьёзных страстей у меня, по её мнению, не было и быть не могло: серьёзный, уравновешенный мужчина, полностью занятый своим делом, настолько, что забывает об исполнении супружеского долга, а если вспоминает, то по выходным дням — как сверхурочную обязательную работу.
Ах, если б ты знала, Зинуля, милая моя, что за дьявольщина была в моей жизни! Это, наверное, показалось бы тебе неправдоподобным, ужасным, чёрт знает чем. Да и мне теперь не верится, что всё это случилось со мной, и, главное, я не смогу, никогда не смогу рассказать эту историю кому бы то ни было, глядя прямо в глаза, не смущаясь, без запинки и ощущения внезапного жара на щеках. Представь себе, я, оказывается, ещё могу краснеть. Не веришь? Ну, конечно, мне пришлось так долго натягивать на себя другую кожу, чтобы, в конце концов, не отличаться от всех — эдакий среднестатистический гражданин, серый, невзрачный, и никто уже не оборачивается вслед. А что оборачиваться? Еду с ярмарки…
Те два листочка из моей записной книжки так и не нашлись. Да и не могли найтись: их, конечно, забрала Лиза, потому что не хотела, чтобы я досаждал ей телефонными звонками. Всё когда-нибудь кончается. Впрочем, дело даже и не в этом.
* * *Если бы я был наблюдательнее и умнее, то, наверное, догадался бы, что тот мужчина, который поселился в её квартире, вовсе не был ей чужим человеком, якобы переехавшим из другого города по какому-то сложному, запутанному обмену. Во всем его облике, в выражении лица было нечто такое, что напоминало Лизу. Теперь, когда пишу эти строки, отчётливо вспоминаю сцену в крохотной, полутёмной прихожей.
— Извините, Лиза тут больше не живёт, — сказал парень. Его ресницы дрогнули, но он не отвёл взгляд в строну.
— Я получил странное письмо, ничего не пойму, — сказал я. — Она написала примерно так: «Меня больше нет. Не пытайся искать. Считай, что я тебе просто приснилась: была — и нет! В квартире будет жить другой человек. Он ничего обо мне не знает».
— Всё правда. Я даже не знаком с ней. Обменом занимался посредник. А что, у вас какие-то претензии? Обращайтесь в фирму…
— Дайте её адрес, — попросил я. У меня не было с собой ни бумаги, ни карандаша. Мужчина принёс и то, и другое, но сам писать не стал продиктовал адрес в Риге. Оказывается, он жил там. Квартиры удалось обменять просто каким-то чудом, потому что Россия и Латвия теперь два суверенных государства, возникла масса ограничений и условий, просто жуть!
— Возможно, вам повезёт и эта фирма ответит, — сказал мужчина. — Там берегут тайны клиентов. Но попытка не пытка — напишите, может, откликнутся…
Что-то неуловимо странное было в нём. Он почему-то старался стоять ко мне вполоборота. Голос с хрипотцой, как это бывает при сильной ангине. На скулах проплешины редкой щетины, а подбородок и шея — гладкие, будто волосы там никогда не росли. Тонкие, ухоженные пальцы, отливающие благородной белизной, тоже меня смутили: какая-то немужская ладонь, слишком хрупкая. Наверное, он музыкант, а, может, карманный вор? «Щипачу» тоже нужно холить и лелеять свои руки, чтобы не потеряли гибкости и чуткости.
— Значит, уже давно её ищите? — предполагаемый «щипач» сочувственно покачал головой. — Послушайте, а вам не приходит в голову мысль, что Лиза в самом деле не хочет вас видеть?
— Как-нибудь разберусь сам, — буркнул я. — Спасибо за адрес.
— Здесь она уже никогда не будет жить, — сказал парень и многозначительно, как-то по-особенному ласково улыбнулся: Поверьте, это похоже на сжиганье мостов…
Вообще-то я об этом уже и сам догадывался, но, честно говоря, никак не мог понять одного: почему? Всё было замечательно, просто дух захватывало, до того хорошо, что даже казалось: это — слишком, чересчур, прекрасно до невыносимости.
Вот оно, ключевое слово: невыносимо!
Вы когда-нибудь задумывались над таким парадоксом: бесконечная Вселенная расширяется. Как может расширяться то, у чего нет пределов? Но, впрочем, что в этом удивительного? Вот, например, человек вроде как ограничен клеткой собственного тела. Выше головы, к тому же, никогда не прыгнешь. И за локоть сам себя не укусишь, как ни старайся. Глаз на затылке нет и не будет, и сердце не каменное, и здоровье не вечное… Но любых пределов достичь можно — и физических, и духовных. А вот удержаться на головокружительной высоте, на пределе сил и чувств — выносимо ли? Если удерживаешься, то быстро сгораешь; не каждому под силу жить каждый день как последний — на всю катушку, не сдерживая желаний, напропалую, безоглядно. Я бы так смог? Скорее всего, нет. И Лиза это поняла. И сошла вниз первой. Она раньше меня поняла, что познавшего восторг и радость свободы уже нельзя держать у ноги как пса, потому что он — вольный волк. И все эти милые штучки — уют, размеренный быт, добропорядочные супружеские отношения, какие-то обязательные ритуалы вроде чмоканья в щёчку перед уходом на работу и так далее — короче, всё то, чем так гордятся крепкие «ячейки» общества, просто убьют свободное и вольное существо. Живым-невредимым он, впрочем, останется, но, Боже, как скучен и утомителен будет этот мужчина, став обыкновенным, и даже не заметит, как любовь обернулась чем-то вроде привычки курить после сытного обеда или чистить зубы перед сном. А могла бы развиваться до бесконечности!
Глупо, высокопарно… Ах, Боже мой, и почему не умею ясно и просто выразить свою мысль? Может, потому, что не желаю признаваться в собственной недалёкости.
Ладно, сознаюсь. Я вообразил, что тот парень всё-таки что-то знает о Лизе и, возможно, он даже её родственник: чем иначе объяснить их внешнее сходство?
Я несколько раз ездил в бывший Лизин дом, звонил в дверь её квартиры и, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, облокачивался о косяк. Мне казалось: по ту сторону стоит Лиза и, так же затаив дыхание, слушает, как дышу я. Но дверь не открывалась.