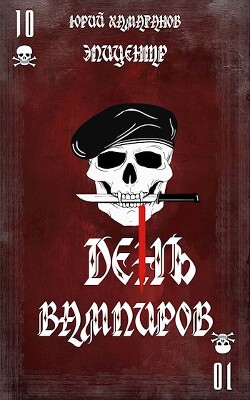Два дня до солнца (СИ) - Комарова Марина
Если дорога во Львов была по большей части созерцательной, не считая разговоров с Володей, то в этот раз мне не до созерцания. Потому что я слушаю Ярасланова.
Он сидит, подогнув ногу под себя, уже довольно долгое время. Я невольно отмечаю, что ему это не причиняет ни капли неудобства. Он вообще гнется словно лоза, просто раньше я не видел так близко каждое движение, а теперь вот оно, смотри да изучай.
Три пуговицы на рубашке расстегнуты, временами мелькает серебряный блик цепочки. Интересно, на ней что-то висит? Когда я его видел в комнате, ничего не было.
― Значит, Создатель ничего не может поделать со своими… с тем, кого создал? ― осторожно спрашиваю я.
Ярасланов откидывает с лица светлые пряди, немного морщится. Похоже, его раздражает дорога, но он прекрасно понимает, что с этим ничего не поделать, и пытается хоть как-то держать себя в руках и не сорваться на мне.
― Может. Например, не выпускать их, ― отвечает он.
Я жду какой-то кривой усмешки или намека, что это такая злая-злая ирония, но Ярасланов чудовищно серьёзен. От этого немного не по себе.
― Я сейчас не шучу, ― говорит он, будто угадав мои мысли, и поднимает взгляд. Там странная задумчивость, ни намека на прежнее ехидство. Интересно, настоящий Богдан Ярасланов передо мной сейчас? Или все же был тогда, а теперь просто на какое-то время показал свою усталость? Он продолжает:
― Создатель не может не создавать, это как… вот скажи, Антон Шут, ты можешь не писать?
Вопрос ставит в тупик.
Можешь не писать ― не пиши.
Не эту ли фразу встречает каждый, кто решает сесть за чистый лист и начать свой текст?
Можешь не писать…
Не могу.
Это я понял давно. Даже если что-то случится в моей жизни и я решу сделать перерыв, это не значит, что перестану думать на тему: как это написать?
Наверное, каждый из нашего писательского племени однажды ловит себя на том, что любую ситуацию пытается разложить на строки, обернуть в буквы, разделить знаками препинания и оставить на бумаге. Первые рассказы я писал в тетрадке в клеточку душой и тупым карандашом. Потом перечитывал и казался себе жутко талантливым.
Со временем тетрадки сменились на программы, клавиатуру и монитор, но прежнее «как это написать?» не изжить. Оно пропитало собой всё моё естество. Даже если я сменю работу, перестав быть коммерческим писателем, писать… не перестану. Это как однажды ты научился ходить, так и тут.
― Нет, ― отвечаю чистую правду. ― Не смогу. А ты?
Он внезапно моргает. Кажется, не ожидал такого вопроса.
― Не знаю, ― признается честно; я чувствую, что честно, и продолжает: ― Мне это нравится. Позволяет забыть о том, каким чудовищем я создан на самом деле.
― Чудовищем? ― переспрашиваю я. ― Это цитата из книги?
На губах Ярасланова появляется кривая ухмылка, а в глазах снова то присущее ему выражение ― снисходительность и мягкая насмешка:
― Это цитата из жизни, Антон. Ну да ладно. Нравится тебе это или нет, но уже ничего не поделать. Талант у тебя и правда… сильный. Ты можешь вытягивать на свет тварей, которых создало твое воображение. Почему тварей? Обычно при создании чего-то страшного и непонятного уходит больше эмоций, поэтому твари и выходят первыми.
― Твари выходят первыми, ― хмыкаю я. ― Знаешь, прекрасное название для романа.
Он смотрит на меня, потом кивает:
― Согласен. Запомню. А то что-то прямо мучаюсь с названием новой книги.
На несколько минут повисает тишина. Я ждал не такого ответа, но уж какой получил.
― Что… ― пытаюсь сообразить, как сформулировать вопрос. ― Что мне нужно делать, чтобы научиться не выпускать… такое? И какова в этом всем твоя роль?
Ярасланов откидывается к стенке, как раз на мягкий подголовник, и хмыкает:
― Не выпускать тварей будешь учиться сам. Но я тебя хочу кое-кому показать. Конечно, он чертовски необщителен, угрюм и не любит людей, но умён и знается на всяких интересных вещах. По крайней мере сумеет что-то подсказать. Ну… надеюсь на это… Что касается меня… Нет, Антон, я никого не создавал, хотя по лицу вижу, что ты мне не веришь. Но это правда. Я не Создатель. И никогда им не был.
― Тогда кто? ― уточняю я, не собираясь давать ему возможность уйти от ответа. ― Почему ты оказываешься все время рядом со мной? А сейчас и вовсе конвоируешь домой?
Ярасланов картинно потягивается, словно довольный кот, явно испытывая мое терпение.
― Скажем так… Ты ― мой крест, и мне тебя нести.
Я фыркаю:
― Не надо меня нести, уж в десять месяцев научился ходить.
Он внезапно откидывает голову и начинает хохотать. Это странно, но через некоторое время меня самого разбирает смех. И как-то уж выходит, что сейчас правильно ― смеяться.
За окном будто разлиты чернила, не видно даже звезд на небе ― всё затянули тучи. Поезд укачивает, стук колес напевает какую-то, ведомую только ему одному колыбельную. Меня начинает клонить в сон. Ярасланов не возражает и выключает свет.
Я отрубаюсь, едва голова касается подушки. Совершенно неважно, что она жесткая, а множество вопросов по-прежнему без ответов. Но если уснуть во время ответов Дана, то есть риск получить по голове.
Дан… Пожалуй, ему идет такая форма имени. Как-то звучит легче.
Это последнее, что мелькает в мыслях перед тем, как сон утягивает меня в бархатные объятия.
…А потом выбрасывает резким ударом, когда поезд останавливается на какой-то станции. Но просыпаюсь я не от этого, а от странного ощущения: на меня смотрят так, что кожа горит.
Не сразу могу понять, что царит вокруг.
Темно. Очень темно. А ещё ― сыро до ужаса. Кажется, ночной воздух пробирается под одежду, потом ― под кожу.
Слева что-то возвышается. Это точно не жилой дом, да и не административное здание. Что-то… большое. Я бы сказал, что замковая стена. Только вот откуда?
― У нас времени в обрез, ― произносит стоящий рядом парень.
Достаточно высокий, худой, русые волосы в беспорядке ― не длинные, но и не короткие. Кажется, ему сейчас не до внешнего вида. Об этом говорят и потертая кожанка, и испачканные джинсы, словно где-то познакомился с землей и пылью, и горящие серые глаза. Горят они как-то странно, то ли нездоровым возбуждением, то ли страхом, а потому ― желанием куда-то бежать.
― Да, согласен, ― отвечает голос… Это нельзя объяснить, но я его уже слышал. Боже, да это же Ярасланов! Только вот непривычная интонация: меньше благородной иронии, зато больше неприкрытого ехидства и яда.
Я осознаю, что смотрю… смотрю его глазами.
― Эй! Если не вернетесь по-хорошему, притащим силой, ― вдруг раздается где-то впереди, и из тьмы показываются трое мужчин откровенно бандитской наружности.
Мне все совершенно не нравятся. Не нравятся и русоволосому парню, который невольно отступает.
Плавное и быстрое движение рукой, чтобы задвинуть его за свою спину.
― А вы подойдите и попробуйте, ― звучит такая насмешка, что трое вмиг срываются и кидаются к нам.
Сердце сжимается, но вместо того, чтобы бежать ― прыжок вперед, перед взором мелькают пальцы с чудовищно изогнутыми когтями.
Вскрик. Удар. Вой. Влажный хруст. Мерзкое бульканье.
Снова удар.
Ещё один.
Крик обрывается и тает во тьме.
Уличный фонарь выхватывает вязкую кровь, капающую на землю, немного задерживаясь на заостренных когтях. Легкое движение ― капли разлетаются в разные стороны. А потом… пальцы медленно-медленно приближаются, касаются губ ― во рту появляется солоновато-металлический вкус.
К моему горлу подступает дурнота, все внутри скручивает жгутом. Перед глазами плывет.
Поезд резко дергается, приходя в движение. Меня от этого чуть не швыряет в сторону.
Моё запястье резко перехватывают, сжимая до боли.
― Эй-эй, осторожнее, ― хрипло шепчет Дан, ― сядь.
Во всем теле какая-то мерзкая слабость, перед внутренним взором до сих пор когти и кровь-кровь-кровь…
― Что… ― с трудом произношу я. ― Что это было?
― Вот что бывает, когда вместо того, чтобы спать, заглядываешь в глаза звезде современной прозы, ― фыркает он и тут же ойкает от неожиданности, потому что я с силой прикладываю его локтем по ребрам. ― За что?!