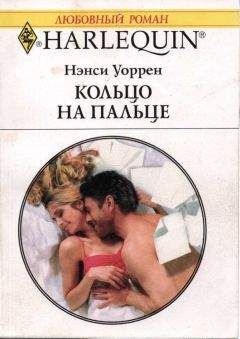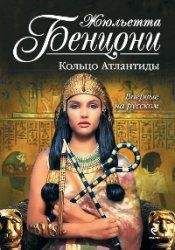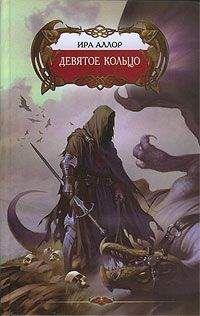Джоанна Бак - Дочь Лебедя
Он сидел на обедах, где чуть ли не каждая женщина за столом была с ним близка, и в этом он видел подтверждение своему исключительному обаянию. Но годы шли, и он наконец понял, что любой другой мужчина знал этих женщин так же хорошо, и то, что он считал своим личным триумфом, было просто подтверждением обыденного отношения к любви.
А затем он долго топтался на одном месте. Его стало посещать странное чувство потери, это было как похмелье: быстро исчезающее, неприятное, без определенных причин. Он ждал внимания, к которому привык, но его не было; глаза окружающих безразлично скользили по его лицу, тогда как раньше они бы засветились, ожидая приглашения. Потом Нина уехала путешествовать без него и не вернулась, решив пожить в Индии, в Кашмире. Он думал, что это просто ее прихоть, но появился управляющий дома и заявил, что рента не уплачена, и поинтересовался, будет ли он платить или съедет. И поскольку он не мог позволить себе жить столь роскошно, он съехал.
Он раздался в кости, его волосы поредели, и он понял, что дальше он не может жить так, как прежде, что ему нужно что-то делать.
Он вернулся в Вену, собрал документы, достал свой студенческий портфель, созвонился с людьми, которые производили декоративные ткани. Он занимался самобичеванием, считая, что ему наконец приходится расплачиваться за прошлые хорошие времена. Он настолько привык, что другие за него платят, что в первые годы своей работы художником-декоратором он нередко замирал у стола, клал на него кисточку и ждал, что его кто-то спасет.
Бен упустил свой шанс, он промелькнул, пока он спал, читал журнал в фойе аэропорта, думал о следующем блюде. Все прошло. А теперь он самый обыкновенный человек, которого все еще посещают мысли о том, какой должна была бы быть его жизнь: записная книжка в кожаном переплете на прикроватном столике в «Ритце», вечеринка в замке, куда гости прибывают на вертолете, официанты, предлагающие ему кубинские сигары. Париж у его ног.
И вот он не в Париже, а в Нью-Йорке, сидит за своим письменным столом с кисточками, ручками, линейкой и скальпелем, который он использует для того, чтобы срезать ошибки. В два ряда, по семнадцать в каждом, выстроились баночки с краской. Здесь нет тридцати четырех цветов, они повторяются: желтый, два кобальта, три зеленых… Он только что закончил тропическую серию — двадцать четыре листа, четыре варианта по шесть рисунков каждый: пальмы, туканы, манго и ананасы. Не самая лучшая его работа. Он всегда заботился о том, чтобы все оттенки цветов были тщательно воспроизведены на нежном шелке… Ему сорок восемь, и он сдался.
Это состояние было общим у них с Флоренс. Это было в них еще до того, как они встретились, и именно это их объединяло, эта уверенность, что шанс упущен, прошлое изломано, и будущее ничего не изменит. В тот вечер, когда они встретились, он долго разглагольствовал по поводу упущенных возможностей, — это был его обычный трюк. Он заметил странную девушку в мужском свитере, на лице которой не было никакой косметики и которая выглядывала из-за своей челки, как испуганный зверек, запертый в клетку здравого смысла.
— Я бы хотела стать очень старой, но при этом пребывать в добром здравии, величественной и возбуждающей любопытство, — сказала она.
— Почему? — спросил он, хотя понял, что она имела в виду.
— Потому что в этом случае вы уже больше ничего не ждете, — ответила она.
— А чего ждете вы? — поинтересовался он.
— Ничего, — ответила она. — Поэтому проще быть старой.
Она улыбнулась ему грустными глазами, и выражение ее глаз сделало улыбку правдивой. Чему можно было доверять, так это покорности.
Их разочарования очень подходили друг другу; они притворились, что полюбили друг друга.
Ей нравилось, что он похож на морщинистого ребенка, на старую куклу. Она так долго общалась со статуями, что с куклой было даже проще. Старинные и сломанные вещи были привычными; через призму оплошностей и упущений она могла видеть, что было прежде, не то, что есть. Ей нравились его нервные руки, то, как у него перехватывало дыхание, его американский акцент. Они говорили о туфлях ручной работы, о тростях и минеральных источниках. Через несколько дней они вместе отправились в Виши, где остановились в большом белом отеле и где пили воды из оловянных чашечек, которые наполняли водой из позолоченных кранов женщины в белых шапочках. И еще они лежали на большой белой кровати и прикасались друг к другу медленно и осторожно. Без одежды он выглядел гораздо моложе. И ее, и его кожа была гладкой, при опущенных шторах неторопливо они исследовали друг друга как любопытные дети.
Так продолжалось долго. Его прикосновения были легки и неторопливы. Им была не нужна страсть, лишь спокойная игра с телами друг друга, обнаженными и прохладными. Все так сдержанно, так спокойно, что жар и страстное желание, вызванные ладонями и губами, уходили куда-то в область солнечного сплетения.
Для него это равнодушие было привычной хитростью. Когда он был молод и красив, женщинам приходилось им овладевать, его нужно было долго упрашивать и, более всего, в постели; тогда результат определялся степенью его благосклонности, теперь это было его искусство. Ей нравились его ленивые ласки, она принимала их, но она не позволит ему войти в нее. Все что угодно, только не это.
— Больно? — прошептал он ей, когда его тело оказалось сверху.
— Нет, — ответила она, — но я сейчас заплачу, не надо.
Он уступил. Возбуждение само по себе было достаточно приятным.
Они были вместе уже десять лет, и он ни разу не вошел в нее. По ночам она плакала в его объятиях из-за кошмаров, о которых никогда не рассказывала. Они держались за руки в самолетах, думая о смерти. Они вместе заполняли бланки и вместе лгали окружающим, что они семейная пара. Последние пять лет они даже не дотрагивались друг до друга в постели, она спала во фланелевой ночной рубашке, а он в старой футболке. Они делили пищу и деньги, они делили друг с другом жизнь, их судьбы были неразрывны. Они оба для себя однажды решили, что посредственное нормально, и теперь старались быть таковыми. На него иногда нападали приступы воспоминаний о кожаной записной книжке на мраморном прикроватном столике в дорогом отеле, но он никогда об этом не рассказывал. Если бы он стал говорить о прежней роскоши, то лишился бы того, что имел сегодня.
А у нее по-прежнему был Феликс, который был мертв, мертв вот уже пятнадцать лет.
2
Зимы в Нью-Йорке очень солнечные; от этого они не становятся короче, но солнечный свет опровергает зимнюю спячку. С первого года жизни здесь она была очарована фестивалями: оранжевые, желтые и белые зубки кукурузы из леденцов на День Всех Святых, алтей на День Благодарения, шоколадные деревья на Рождество, шоколадные сердечки в День Святого Валентина и шоколадные яйца на Пасху. Всякий раз, когда темп замедлялся, она уже знала, что пора выйти и купить конфет.