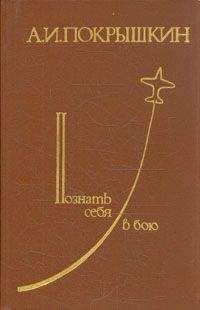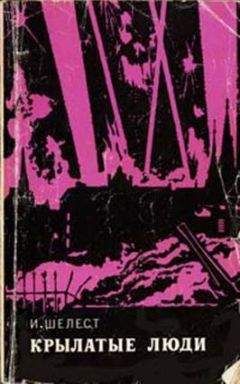Александр Ежов - Преодолей себя
Окружило половодье
Все чувашское село.
Почернели прежде взгорья,
После снег с полей сошел,
В зеленеющем уборе
Заиграл под солнцем дол.
Стихи, такие простые и безыскусные, западали в душу, волновали. Она начала расспрашивать, кто такой поэт Константин Иванов, когда жил.
— Умер до революции, двадцати пяти лет.
— О господи, как мало жил! Почти так же, как и Лермонтов. А сколько бы мог еще написать!
Чакак начал рассказывать Насте о своей матери.
— А жива мать-то? — спросила Спиридоновна.
— Нет, умерла,— ответил Чакак.— И отец рано умер. Грамотный был, а дедушка вот жив. И две сестры у меня — Роза и Валентина.
— Такие же, поди, как Нарспи?
— А вот уж не знаю, не мне судить, но хорошие и добрые.
На другой день Настя проснулась рано, наскоро умылась, привела себя в порядок и заглянула в боковушку, где спал маленький Федор. Он проснулся, как только вошла Настя, глазенки спросонья уставились с удивлением на нее. Настя заулыбалась, подбежала к кровати, спросила:
— Что, не узнал, Феденька? Это я, проведать тебя пришла...
Он смотрел на нее с удивлением и тихо, слабеньким голоском произнес:
— Мама...
— Узнал, родненький... Как живешь-то у бабушки?
— Хорошо
— Ну, вот и преотлично, мой мальчик.— Она села кровать, приподняла Федю на руки — он все еще был легкий, словно бы невесомый. Видать, харчишки у матери не ахти какие: картошка да капуста, не всегда с хлебом, но и то ладно. Жить можно. Вот окончится война — тогда все пойдет на поправку, всего будет вдосталь: булки, и конфеты появятся... А сейчас вот она, Настя, даже гостинчика не принесла. Неоткуда взять — ведь нет ничего, одна бедовуха да корочка хлеба.
В Нечаевку Настя и Афиноген отправились, когда уже на мокрую от дождя землю пала густая осенняя сумеречь. Настя шла впереди, а за ней — Чакак, шаги его — тихие и осторожные. Она слышала эти шаги, слышала, как он дышал ей в затылок, тяжело и с присвистом, потому что у него побаливало горло — пил холодную воду и застудил. Когда подошли к деревне, уже стемнело. Остановились у крайней разворотни. Здесь как раз и жила Синюшихина — мать полицая. В окнах слабо мерцал огонек.
Настя подошла к окну и замерла от неожиданности: в доме за столом сидел Гаврила, сидел один. «Вот и хорошо,— подумала Настя,— если Синюшихин один, то и взять его будет легче, без посторонних глаз».
— Вроде один,— сказала, подойдя к Афиногену,— матери нет.
— Значит, попал в ловушку.— Настя заметила, как в темноте заблестели глаза у Афиногена. Он даже скрипнул зубами.— Чего ждать? Надо брать его тепленьким...
Чакак подошел к двери и начал стучать. Громко крикнул:
— Открой!
— Кто там? — послышалось из-за двери.
— Свои!
— А кто свои? Кто такие?
— Из полицейской управы,— уточнил Чакак.— Срочно вызывают тебя, Гаврила. По важному делу.
— По какому такому важному? Больной я. Не могу явиться.
— Ну, открой! Объяснишь, что там и как.
Синюшихин не открывал, видимо, почувствовал что-то неладное, боялся.
— Не откроешь — хуже для тебя,— припугнул его Чакак.— Как дезертира расстреляют.
За дверью щелкнул крючок, и дверь распахнулась. Синюшихин попятился, глаза его округлились. Увидев Настю, он сразу понял, что это конец, что пришло возмездие. Стал умолять:
— Не виноват я. Пожалейте, христа ради. Не виноват. Простите!
Он упал на колени, спина его тряслась не то от рыданий, не то от страха. Настя с брезгливостью глядела на Синюшихина, приосмотрелась: в избе было полутемно, на столе чадила коптилка, в переднем углу почерневшие образа, большая печь, на шестке — закоптелые чугунки и кринки. Пахло кислыми щами, сивушный дурманом, затхлой овчиной. На столе — недопитая бутыль самогона, фарфоровая чашка, недоеденный огурец, ломоть черного хлеба. Дышать было тяжело. Едва привыкнув к спертому воздуху, она спросила:
— А мать где?
— Мамаша? Она к Цыганковым ушла,— ответил плаксиво полицай. — Сейчас вернется. А что со мной?
— Отведем куда следует,— ответил Афиноген. — Сбежал-то откуда?
— От партизан.
— Так вот к партизанам опять и отправим.
— Зачем? Я не хочу. Не хочу!
Синюшихин опять бросился в ноги Афиногену, затрясся в конвульсиях, зарыдал.
— Отпустите, ради бога! Простите! Настя, прости! — Он смотрел на Настю умоляюще, увидев пистолет в ее руке, сник.
— Вставай, пошли,— приказал ему Чакак. — Одевайся, нам ждать некогда.
— А куда пойдем-то? — снова спросил полицай и начал поспешно напяливать на плечи мундир.
Одевшись, он покорно вышел в сени. Оказавшись на улице, бросился бежать. Настя, вскинув пистолет, устремилась за беглецом. .
— Стой! Стой! — закричала она. — Стрелять буду! Остановись, гадюка!
Спина Синюшихина еле различалась в полутьме, он бежал и, словно бы ныряя,
спотыкался. Настя еле поспевала за ним и страшно боялась потерять его из виду. Потом выстрелила из пистолета. Попала в него или нет, она не знала, а сама споткнулась и распростерлась плашмя на сырой земле. И в этот момент мимо нее вихрем промчался Чакак. Он стрелял на ходу и кричал:
— Остановись, гад! Все равно не уйдешь! Не уйдешь, предатель!
Потом он, видимо, догнал Синюшихина, послышался еще выстрел — и все затихло, замерло, оцепенело.
Чакак вернулся, когда она уже поднялась, чувствуя острую боль в правой ноге: падая, ударилась о что-то твердое.
Чакак тяжело дышал и, поддерживая Настю за руку, спрашивал:
— Не сломала ногу?
— Нет, нет, только ушиблась. А он там как? Синюшихин?
— Именем закона и народа приговор приведен в исполнение. С негодяем покончено,— сказал он просто, так просто и обыденно, как будто бы ничего и не случилось.
Стояла мертвая тишина, черная и тягучая. Настя с облегчением вздохнула, словно сбросила тяжкий груз, но сердце стучало громко и тревожно, звало куда-то. Хотелось поскорей уйти от этой захолустной деревеньки Нечаевки, уйти к своим...
— Пойдем,— сказала она Афиногену и взяла его за руку.
Он покорно зашагал рядом. Над землей висела густая и влажная темень, почти ничего не было видно, накрапывал мелкий холодный дождь.
Глава семнадцатая
Наконец пришло предписание свыше отправить группу Усачевой по определенному маршруту и с определенным заданием. Настя получила соответствующие инструкции, и разведчики двинулись в путь. Шли пешком до деревни Глебово, километров пятнадцать. Пауль нес радиостанцию, Настя и Паня шли следом, часто отдыхали, а когда пришли в деревню, там для них была уже подготовлена подвода. Радиостанцию уложили на сани, прикрыли сеном и в тот же день двинулись снова в путь.