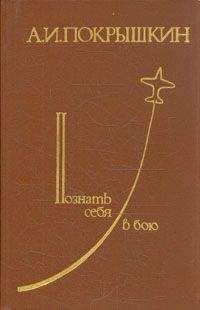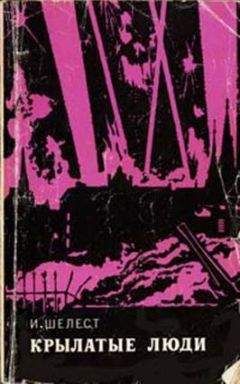Александр Ежов - Преодолей себя
— Хорошо. Завтра заходите в двенадцать ноль-ноль. Я выясню все,— и записал: «Надежда Поликарпова».— А где вы остановились? Где живете?
— В ее доме, в доме Поликарповой, он совершенно пустой...
Брунс заулыбался, глаза его заблестели плутоватой живостью, и он снова заговорил:
— Такая красавица — и одна. Не боитесь?
— Нет. Бояться мне некого. Я ведь никому ничего плохого не сделала.
— Ну, хорошо, хорошо. Приходите завтра.
На другой день разрешение на свидание с Надеждой она получила. Сестра сидела не в центральной тюрьме, а в бараке, на окраине города. Пропуск был за подписью Брунса, и ее сразу же пропустили во двор, затем она прошла в комнату, где сидел пожилой тюремщик с автоматом в руках. Он проверил опять ее пропуск и проводил в соседнее помещение, указал на скамейку, и она села. В комнате было мрачно и пустынно — голые стены, грубый стол и возле стола две скамейки. На табуретке сидел полицейский, цепко смотрел на Настю, и ей стало немножко жутко. Да и удастся ли поговорить с Надеждой откровенно, без утайки? Волнение нарастало, и она не могла подавить в себе это волнение, сидела и ждала.
И вдруг в дверях появилась Надя в сопровождении конвоира. Переступив порог, она замерла от неожиданности, слегка вскрикнула и чуть не упала. Тюремщик подхватил ее под руки и усадил на скамейку. Теперь они сидели друг против друга, словно немые — не могли говорить. Говорили только глаза. Надежда смотрела на сестру с удивлением, будто бы спрашивала: «Как ты появилась тут, Настя? Не ждала тебя, совсем не ждала. Нежданно-негаданно в гости прикатила, а хозяйка, как видишь, принимает тебя не в доме своем...» Надя смотрела на сестру, и слезы заполняли ее глаза.
— Не плачь, Наденька! Не плачь... — начала утешать Настя сестру, но и сама чуть не заплакала. — Может, выпустят. Потерпи немного. Может, все обойдется…
Надя перестала плакать. Смотрела на сестру печально, и было видно, что она не верила в ее слова, не верила в избавление. Немного помолчав, сказала:
— Настя ты, Настя! Редко кто выходит на волю из этих стен. Живым, невредимым. Или погибнешь здесь, или отправят куда. На каторгу. Другого пути нет...
— Помогу тебе, Надя. Помогу, вот посмотришь, вырву из неволи.
— Как? Каким путем?
— Поможет один человек. Буду просить его. Поможет.
— Ой, не верю, Настенька! Не верится мне. А кто? Скажи — кто?
Настя подалась всем телом к сестре, прошептала:
— Брунс. Я была у него. — Сказала и сама испугалась этих слов. Страшным было это имя, для Наденьки страшным. Спохватилась Настя, но было уже поздно. Наденька побледнела, испугалась, с подозрением смотрела на сестру. Потом спросила:
— Ужели Брунс? Не может этого быть! Ты с ними, Настя?
Настя хотела сказать, что нет, нет, что она не с ними, и не могла этого сказать: рядом сидел тюремщик и все мог услышать — и тогда она пропала.
— Помогу, Наденька,— только и могла она еще ей сказать.
Надя смотрела на нее сурово, осуждающе смотрела. И это Настя поняла и не могла уже исправить своей оплошности.
— Не надо мне твоей помощи,— сказала Надя.— Не надо!
— Ты успокойся. Все будет хорошо. Вот прими передачу. Принесла тебе хлеба и картошки. Больше ничего не могла. — Она протянула узелок: — Возьми, голодная небось...
— Не надо мне твоей подачки. Поняла я все! Поняла!— И Надя отбросила узелок. Он развязался. Хлеб упал на стол, картофелины покатились, догоняя друг друга.
Наденька порывисто поднялась. Настя увидела, как гневно засверкали у нее глаза. Надя круто повернулась и в сопровождении часового исчезла в проеме двери.
Настя не могла подняться, словно приковали ее к сиденью. Она хотела крикнуть сестре вдогонку: «Наденька, я своя! Я не с ними! Поверь мне, Наденька!» Но Наденька исчезла, а Настя сидела и молчала, убитая горем, раздавленная, почти парализованная. Что она могла поделать? Что сказать? Только молчать и страшное горе унести с собой. Лучше бы сама умерла вот тут, на этом месте, лучше бы сгинула навсегда.
Глава шестая
Долго не могла уснуть в эту ночь Настя. Перед глазами стояла сестра Надежда, и казалось, что смотрит она на нее осуждающе. И дом, в котором жила, казался чужим, и жить в нем было теперь неуютно и боязно. Только перед рассветом немного уснула, а когда проснулась, открыла глаза — в комнате уже было светло, начинался новый день, и надо было что-то делать. Наскоро поела, вышла на улицу. Погода была пасмурной. Тугой и прохладный ветер гнал на юго-восток тяжелые серые облака, набухшие влагой. Дождя давно уже не было, и все же в этом ветреном полуненастье чувствовалось отдаленное дыхание осени. Она шла на явочную квартиру, находившуюся на улице Гоголя. Нашла нужный дом, постучала в калитку. Дверь открыла девочка лет двенадцати:
— Вам кого?
— Мне папу.
— Папы нет, дома мама.
— Позови маму.
Девочка ушла, и Настя осталась стоять в нерешительности. Возникал вопрос: почему вышла не сама мама, почему послали девочку открывать дверь?
Наконец на пороге появилась женщина, худая, лет тридцати пяти. Как и было условлено, Настя спросила:
— Есть в продаже капуста?
Женщина раздраженно ответила:
— Не продаем,— и хлопнула дверью.
«Что же это значит? — думала Настя, возвращаясь. — Дом, кажется, тот, и улица та. Ведь не мог ошибиться Филимонов. И все-таки женщина ответила не так, как предусматривал пароль: „Сегодня не продаем, продавать будем завтра”. А тут просто: „Не продаем”. Не пригласила в дом. И взгляд у нее недружелюбный, почти враждебный».
Филимонов предупреждал, что к запасному связному пойти можно только при чрезвычайных обстоятельствах, и это нужно делать не сразу, а приоглядевшись, нет ли за тобой «хвоста». Адрес на запасную явку у Насти был, но идти туда можно было дня через два-три, убедившись, что нет слежки.
Настя сходила на биржу труда, зарегистрировалась. Пообещали устроить на работу: ведь она хорошо знает немецкий язык. И надо было еще раз встретиться с Брунсом, но, чтобы пойти к нему, нужно придумать какой-нибудь повод, какую-либо причину. Сделать все так, чтобы он не заподозрил ее ни в чем. И она нашла этот повод: решила рассказать ротенфюреру о приезде в Большой Городец Гешки Блинова, и пусть он вызовет его и все толком расспросит о Федоре. Но, с другой стороны, этого делать не следовало: если немцы узнают, что она вдова, да притом при ее привлекательной внешности, будут приставать со своей любовью. А попробуй отвяжись…
Когда шла обратно, незаметно для себя оказалась в центре города. И вдруг услышала чей-то окрик. Обернулась и увидела перед собой Гаврилу Синюшихина. На нем был черный мундир с широкими серыми обшлагами, зеленая кепка с длинным козырьком. Он улыбался, сверкая единственным глазом, и, поднеся ладонь к неестественно длинному козырьку, проговорил: