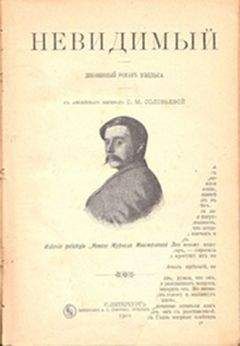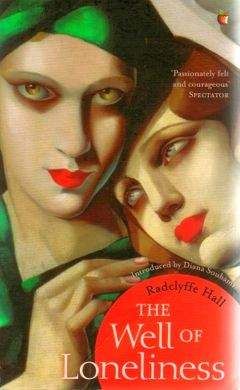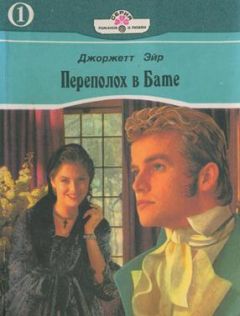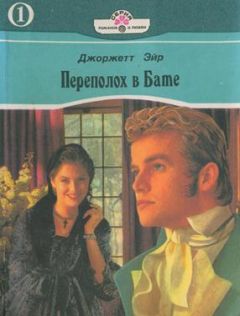Джоржетт Хейер - Черная моль
— Боюсь, что расстроила вас, мистер Карстерс. Не желаете ли выпить перед уходом? Обещаю, что больше не буду об этом говорить.
— Вы очень добры, мадам. Верьте, я страшно признателен вам за все, что вы мне рассказали. Надеюсь, вы позволите и дальше навещать вас?
— Сочту за честь, сэр. Для друзей я всегда дома.
Вскоре в гостиной появилась ее сестра и приватной беседе настал конец.
Всю ночь напролет Карстерс лежал без сна. Он слышал бой часов, слышал, как кричат совы на площади. Слова вдовы глубоко запали в душу и бередили и без того больную совесть. Спать не давали мысли о Джоне и ее слова: «Одинокий, несчастный, без друзей…» Время от времени он задавал себе вопрос: Джон или Лавиния? Интересно, где сейчас его брат? Все еще разъезжает по дорогам южного графства, одетый разбойником?.. Никто не знал, что больше всего Ричард страшился вестей о поимке очередного разбойника. Всякий раз ему казалось, что среди арестованных его брат, и он так часто ездил в Ньюгейт[46], что друзья стали насмехаться над ним, намекая, что он заразился от Селвина любовью к ужасам.
Затем он начал убеждать себя, что судьба Джона целиком зависит от него самого — стоит захотеть ему вернуться в общество, и он может это сделать. Но в глубине души Карстерс знал, что подобное решение для Джека неприемлемо. Затем мысли его переключались на Лавинию, вечно державшую его в напряжении перепадами настроений. Всего неделю назад она открыто восстала против него, отстаивая свое право на дружбу с Лавлейсом, а затем, даже не извинившись перед мужем, вдруг прекратила отношения с капитаном. Ради него, Дика? О, она так мила и прекрасна, так по-детски непоследовательна. Эгоистична? Да, несомненно. Но ведь он ее любит! Любит так сильно, что почел бы за счастье умереть за нее. А Джон… Ведь Джон приходится ему братом… обожаемым старшим братом. И разве, идя на поводу у Лавинии, он его не предает? О, если бы только Лавиния согласилась, чтоб правда, наконец, открылась!.. Он постоянно возвращался к этой исходной позиции: если бы только она согласилась… Но она никогда не согласится. Только и знает, что твердить, что он женился на ней, утаив правду, а потому не имеет теперь права позорить ее. Он понимал, что, по-своему, жена права, однако как же ему хотелось, чтоб хотя бы однажды ей двигал не один лишь эгоизм!..
Так он промучился всю ночь, ворочаясь в своей просторной постели, с тяжестью на душе и неизбывной болью в сердце.
К рассвету все же удалось уснуть и Ричард еще спал, когда принесли горячий шоколад. Он с горечью подумал, что у Джона есть хотя бы одно преимущество — совесть его чиста и он не засыпает, мучаясь неразрешимыми проблемами, и не просыпается с сознанием того, что выхода так и не удалось найти. Он был все столь же далек от решения, как и прежде. У него страшно болела голова и какое-то время он лежал, мрачно взирая на сырое сумрачное утро за окном. Над площадью висел туман, клочья его цеплялись за ветки деревьев со сморщенными листьями. Было нечто бесконечно удручающее в этом унылом пейзаже, и он, наконец, поднялся и позволил лакею одеть себя, не в силах более выносить бездействия. К этому времени головная боль почти совсем прошла и он отправился навестить жену в ее спальне, где выслушал восторженный отчет о вчерашнем приеме. Затем он вышел на площадь, кликнул портшез и велел доставить себя в «Уайтс», где намеревался написать два письма. Слишком уж полон воспоминаниями о Джоне был сегодня Уинчем-хаус и он радовался любому предлогу выбраться из дома.
Даже в столь ранний час в «Уайтс» было полно народу и шум стоял страшный. Его окликали со всех сторон, предлагали сыграть в карты; кто-то пытался пересказать какую-то последнюю скандальную сплетню — его не оставляли в покое ни на минуту и наконец истрепанные нервы сдали и он, выйдя из «Уайтс», отправился к другому клубу, «Кока-три», в надежде, что там потише. Посетителей там оказалось больше, чем он предполагал, но многие пришли сюда написать письма, а потому вели себя тихо. Правда, за одним столом шла довольно бурная карточная игра.
Ричард писал примерно с час, затем, запечатав последнее письмо, собрался было уходить, как вдруг почувствовал за спиной какое-то движение и услышал голоса:
— Откуда, черт побери, ты взялся?
— Бог ты мой, сто лет не виделись!
— Господи, да это ж О’Хара!
В ответ зазвучал низкий голос с ирландским акцентом и Ричард, развернувшись в кресле, увидел следующую сцену: Майлз О’Хара стоял в центре небольшой группки страшно обрадованных и заинтригованных джентльменов и объяснял:
— Да вот, заехал в город по делу, а потом подумал: не заскочить ли в клуб повидать всех вас, раз уж я здесь. Такая возможность не часто выдается…
Ричард поднялся и стал собирать письма, не сводя глаз с этого человека, который был самым близким другом его Джека. И уже шагнул было к нему, но О’Хара обернулся и увидел его. Выражение его лица сразу переменилось, глаза утратили добродушие и смотрели жестко и холодно. Губы презрительно сжались. Карстерс так и замер, держась за спинку кресла и устремив взор на О’Хару, на лице которого читался скорбный упрек и даже гнев. Затем О’Хара выдавил презрительный смешок и отвернулся к своим друзьям.
В голове у Ричарда помутилось. Майлз игнорирует его, не желает даже здороваться… Майлз знает правду. Словно в тумане, направился он к двери, взялся за ручку… О’Хара знает! Он прошел по коридору, как во сне, спустился по лестнице, вышел на улицу, весь содрогаясь при этой мысли. О’Хара знает!.. Знает и смотрел на него, как… как… Тут он снова содрогнулся и, заметив свободный портшез, сделал знак остановиться и велел отвезти его на Гросвенор-сквер… О’Хара его презирает! Ненавидит!.. Тогда, выходит, с Джеком беда? Майлз наверняка видел его и узнал правду! Господи, что же это? Прямо голова кругом!..
Глава 22
После этой встречи с О’Харой Ричард окончательно утратил спокойствие. Он не знал ни минуты свободной от терзаний — днем и ночью его мучила одна навязчивая идея: Джон или Лавиния? Да, или он, или она, другого выбора у него нет, в этом он был твердо уверен. Мысль, что можно попытаться сохранить жену и сознаться, ни разу не приходила в голову. Ведь Лавиния так часто пугала его тем, что не вынесет позора, и он окончательно уверился в этом. Тогда, думал он, она непременно сбежит с Лавлейсом, которого, как твердило измученное подозрениями сердце, она по-настоящему любит. И попытка расстроить их планы будет лишь проявлением чистого эгоизма. Разумеется, он был не в себе и утратил способность мыслить сколько-нибудь рационально. И если б понял это, то окончательно сошел бы с ума. А если б Лавиния относилась к мужу внимательней, то непременно бы заметила, что на щеках его горит лихорадочный румянец, глаза блестят неестественно ярко, а под ними — темные круги. У Ричарда был вид совершенно загнанного человека. По его собственному признанию миссис Фэншо, — после того, как она заметила эти огорчительные перемены в его внешности — он не знал ни минуты покоя, все время должен был двигаться, думать. Она посоветовала ему обратиться к доктору. Его сердитый отказ признаться в недомогании не слишком удивил ее. Тем не менее, миссис Фэншо была изрядно напугана, когда в ответ на ее настойчивые просьбы хоть немного позаботиться о своем здоровье, он вдруг с горечью воскликнул: «Если и умру, тем лучше!» Интересно, подумала миссис Фэншо, неужели жена не видит, в каком он состоянии?.. И вдова задумалась, чем тут можно помочь. Но с леди Лавинией знакома она не была и понимала, что заговорить с ней о Ричарде будет неловко. Если бы недомогание его носило чисто физический характер, продолжала размышлять она, тогда еще можно было бы замолвить словечко, но поскольку в расстройстве явно пребывал его ум, оставалось лишь надеяться, что все пройдет само собой и что в один прекрасный день он выйдет из этого удручающего состояния.