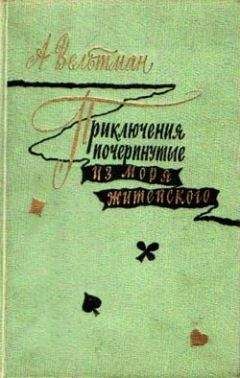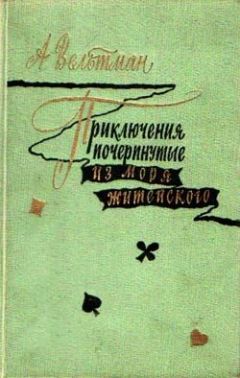Александр Вельтман - Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея
— Ах ты, господи! Да я отломаю бока Дуньке, ей-ей отломаю!
— Полно, брат Ваня. Не то!.. Ездил я к лесничихе, Власьевне, чтоб она поворожила; говорю ей: «Есть у нас горе, как сбыть его, бабушка?»
— Что ж она?
— Да что: горе, говорит, не море, выпьешь до дна.
— Ну, а ты что?
— Что! я ей сказал, что этого горя и мертвой чашей не запьешь.
— Ну, а она что?
— Да что, глупая баба! Привези ты, говорит, ко мне это горе, а уж я знаю, что делать с ним. Привези! Уж если б можно было вывезти ее из дому, давно бы в трущобу ее свез.
— Да что ж ты, брат Алексей Гаврилович… как ты думаешь?…
— А что я думаю… ее и домовым не выживешь из дому!
— Да что ж, коли лешичиха говорит «привези», что ж, брат, за штука привезти.
— Поди-тко ты, сперва увези, да потом привези.
— Увезти-то, брат, штука.
— Уж если правду говорить, Ваня, так что за штука увезти мадам, — сказал Алексей Гаврилович. — Помогай! увезем!
— Увезем; по мне, пожалуй, увезем, черт с ней! Да как увезем-то?
— Э! как увезем, так и увезем!
— Увезти-то не штука, да как вызовешь из дому? разве как обманом?
— Нет, Ваня, такого греха на душу не возьму; обманом — избави бог, век попрекать будет да каять, что вот, дескать, мошенник, обманул! Нет, просто, как бог поможет.
— Разве Дуняшу подговорить? Я, пожалуй, дам слово жениться на ней, пусть только выдаст ее руками.
— Нет, Ваня, нет, брат, ее годится; бог с ней, зачем ее обманывать. Вдвоем-то мы просто руками возьмем, да и в лес с ней.
— А там-то что, на осину?
— Тьфу ты, окаянный! черт знает что говорит!
— Да почему ж я знаю, Алексей Гаврилович: ведь что ж с ней в лесу-то делать? Сказал бы, так я бы и знал.
— А вот что: ты, брат, выезжай ввечеру покосить траву-то за сад к роще, да парой; а я буду караулить, как мадам в сад пойдет прогуливаться. Лошадей-то ты привяжи да жди у калитки.
— Да калитка-то, кажись, заколочена; а всё при ней; не смей, вишь, ходить через сад, когда она изволит прогуливаться; а поди ты, какой обход кругом на реку.
— Калитка будет отперта, это не штука; а вот штука: в господском платье-то ее не повезешь, неравно кто встретится, лесничий с командой или кто.
— Да, Алексей Гаврилович, того и гляди, да ведь она и сама нас признает.
— Пусть себе признает. Я еще сам ей скажу, что я по господской воле все делаю. Что, небойсь не правда? Да, брат, по господской. Если б она, чертова змея, не соблазняла барина, он и не подумал бы ее держать у себя. Уж я тебе говорю, что не барин, а нечистая сила держит ее в доме.
— Домовой небойсь? А что как он рассердится на нас с тобой? Тогда что, Алексей Гаврилович?
— Сердись на меня сколько хочешь, мне плевать. На мне немного возьмешь!
— Да и мне что, я только боюсь, чтоб не изъездил коней.
— Уж, брат, лучше пусть всех коней домовой изъездит, чем этот черт мадам; на всем доме верхом ездит.
— Так, истинно так; да если он и подпакостит что, лесничиха заговор знает.
— А насчет платья-то я придумал штучку… Я тебе после скажу; пойду, чай уж встали все.
Алексей отправился в дом; но там еще все спали, и он пошел в сад к калитке. Алексей был один из тех людей, которые по любви, по угодливости и преданности к господам своим из рабов делаются семьянинами, которых как-то совестно кликать по имени, но невольно зовешь по имени и отчеству.
Саломея, увлеченная мыслью создать из Георгия образец мужчин, предалась ей как материнскому чувству любви, с ток) только разницею, что в сердце матери готовится и любовь к будущей подруге сына; а в сердце Соломеи, при мысли, что Георгий должен со временем принадлежать не ей, а другой, вскипала кровь, и она чувствовала ревность и ненависть к будущей жене Георгия. Зная женщин по самой себе, передавая на их долю всю худую сторону самой себя и оставляя за собой лучшую, Саломея во всей половине человеческого рода не видела достойной того мужчины, в которого она перельет свою душу и которого образует для счастия женщины.
Бессознательно она внушала в него те высокие нравственные правила сердца, которые были необходимы, собственно, для нее и тайный смысл которых заключался в том, чтоб поселить в Георгии страшное понятие о всех женщинах и остаться одной на белом свете, к которой прибегнуло бы его сердце с юношеской жаждой любви.
Несчастный Георгий, испытав и детскую привязанность и юношеское отвращение к мадам Воже, находил в изображениях женщин большое сходство с ней и верил словам Саломеи. Он уже приучен был к нежным ласкам, чувства его быстро поняли разницу между циническими ласками Воже и платоническими Саломеи. От тех он бегал, этих сам готов был искать.
Между тем Филипп Савич, что называется, смотрел в глаза Саломеи со всею почтительностью. Чувства его высказывались только угадыванием и предупреждением ее желаний. Малейшее чье-нибудь невнимание к мадаме было уголовным преступлением: без воли ее ничего не делалось; сам Филипп Савич без ее совета ничего не предпринимал, а ее совет был закон. Это льстило самолюбию Саломеи и наклонности ее господствовать. Тихо, величаво, как будто по убедительной просьбе распоряжаясь всем домом, она нисколько не трогалась судьбою бедной Любови Яковлевны, которая заперта была и болезнью и ею в четыре стены своей спальни. Саломея считала ее дурой и потому почувствовала в себе все право первенствовать в доме.
Мысли ее были заняты благородными чувствами забот о душе Георгия, высокое мнение о себе питалось общей боязнью не угодить ей, начиная с Филиппа Савича до последней шавки, которой тогда только давали есть, когда она простоит в продолжение всего обеда на задних лапах перед Саломеей Петровной; в сердце ее был уже зародыш какого-то наслаждения, с которым она ни за что бы не рассталась, как мать с первенцем страстной любви, взлелеивала и предвкушала его как будущее блаженство.
Это была не пылкая страсть, но сильнее нежной страсти матери, которая утешается и гордится сыном: мать не для себя взлелеивает его; а Саломея жаждала взлелеять Георгия, как дух соблазна, который обаяет душу, с расчетом, что ее уже ничто не искупит из его челюстей.
Но на Георгия быстро действовал тайный, безотчетный замысел Саломеи. Однажды, довольная успехами его в музыке, она забылась, долго смотрела на него с внутренним волнением и вдруг, приклонив его голову к груди своей, пламенно поцеловала в чело и, только опомнившись, произнесла:
— Как ты понятлив, Георгий! Я от тебя в восторге.
Саломея не предвидела, чтоб ее пятнадцатилетнему ученику понятно было подобное невольное излияние восторга и чтоб он отвечал на него не так, как ученик, усиленным прилежанием, а так, как юноша, полный жажды любви.