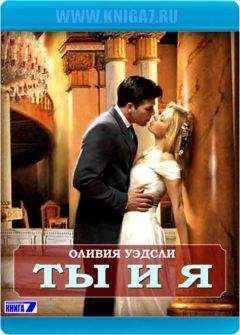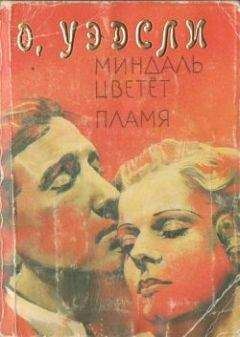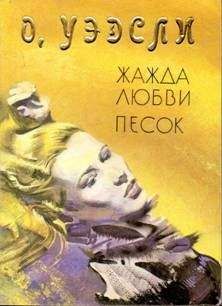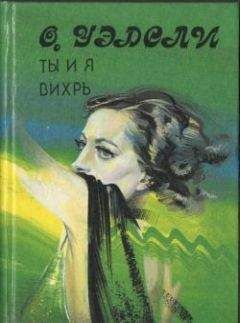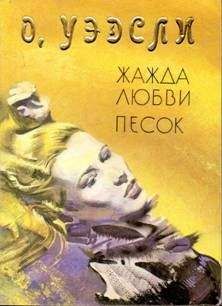Оливия Уэдсли - Миндаль цветет
В душе он возненавидел юность, и хотя продолжал говорить о ней с восторгом, но в голосе его не слышалось удовольствия.
Он восхищался молодостью Доры, но старался отдалить ее от молодых людей и барышень, искусно подсмеиваясь над ними, называя молодежь «пылкой», «шумной» и «банальной».
И Дора под его влиянием стала избегать шумных проявлений жизни, а если и допускала их, то только в отсутствие Пана.
Тем не менее она чувствовала себя вполне удовлетворенной и считала непотерянными только те дни, когда она видела или ждала Пана.
Однажды им удалось провести несколько часов вместе; поздно летом Пан предложил ей отвезти ее в автомобиле в Гарстпойнт.
Дора была в восторге, Ион тоже заинтересовалась этим путешествием.
– Только на одну ночь, – сказал Пан. – Вам не нужно брать с собой много багажа.
День с самой зари был душный и жаркий, но на дороге дул прохладный ветерок.
Они закусили в отеле, где завтрак, по мнению Пана, был именно таким, каким не должен быть завтрак. Но облако его раздражения скоро рассеялось; когда они пересекли поросший вереском луг, сделали остановку и уселись на красном растительном ковре, жизнь опять показалась им прекрасной. Сняв фуражку, Пан разлегся на спине, заложив руки под голову, и улыбнулся своей спутнице.
– Ну, что вы скажете? – поощрительно улыбнулся он.
Они оба рассмеялись; Дора наклонилась и поцеловала его.
– Еще и еще, – лениво говорил он, смотря на нее своими блестящими золотыми глазами; он обвил рукой ее шею и глубоко запустил пальцы в ее мягкие волосы. – О, какое вы восхитительное создание, Дора!
– О небо, как вы очаровательны, Пан! – весело передразнила его Дора.
Она выпрямилась, упираясь одной рукой в землю, а другой лаская его плечо. Он наклонился и поцеловал ее руку, и внезапно эта склоненная черная голова пробудила в ней нежность. Она положила его голову к себе на грудь и стала целовать его волосы.
Около них рос боярышник, бросая тень как раз на то место, где они сидели; густая синева неба сквозила сквозь ветви, где-то пела птичка, пчела летела со своей ношей и своим жужжанием придавала деревенскую прелесть и покой солнечному полудню.
Дора лениво смотрела на вереск, местами уже выжженный солнцем. В стороне стояли деревья, резко выделяясь на фоне неба. Издали донесся свист паровоза, и этот долетевший к ним одинокий звук еще больше подчеркнул их обособленность от всего мира, еще больше скрепил их близость. Невдалеке в тени стоял автомобиль, являвшийся тоже эмблемой их близости. В нем они уехали из ресторана в ту памятную ночь, когда им казалось, что звезды светят прямо в их души.
Доре этот момент показался самым подходящим, чтобы поговорить о будущем.
Она тихо и вполне естественно спросила:
– Пан, дорогой мой, где мы будем жить? Здесь или где-нибудь за границей?
Он ничем не выразил своего неудовольствия, хотя в душе был раздражен этим вопросом, в котором слышалось ему как бы насилие с ее стороны над его волей.
Он немного отодвинулся под предлогом достать из кармана портсигар.
– А где бы вы хотели жить? – беззаботно спросил он.
– Возле вас везде будет рай, – шутливо сказала она; но в его движении и в тоне голоса ей почудилось что-то такое, от чего как бы тень опустилась на ее сердце. Она почувствовала, что Пан «ушел» от нее, хотя она еще не могла понять, отчего это случилось.
Немного стыдливо она сказала:
– Я… я предполагаю, что в конце концов нам придется где-нибудь обосноваться.
Пан рассмеялся:
– Я должен сказать, что вы оптимистка, моя дорогая.
Глаза его сузились, как всегда в минуты раздражения. Ему показалось, что папироса его потухла, он бросил ее, и от нее загорелся вереск; он вспыхнул маленьким язычком аметистового пламени и тотчас погас.
– Вы сами не очень ободряете меня, – сказала Дора; в ее голосе слышалась нервность.
Вместо ответа он притянул ее к себе и прижался щекой к ее щеке.
– Нет, вы правы. Я говорю иногда гадкие вещи. Я это знаю. Я заслуживаю того, чтобы вы меня ненавидели, но я люблю, люблю, люблю вас! Слышите?
Как могла она не слышать и не быть порабощенной этими словами, которые она любила слушать больше всего на свете?
Пан заставил ее опять лечь в вереск, а сам повернулся к ней боком и стал смотреть на нее.
Она улыбалась ему из-под опущенных ресниц, бросавших тень на ее глаза, которые казались зелеными с голубым отливом.
– Откройте их широко, – скомандовал Пан. – Еще шире.
Дора стыдливо повиновалась; она раскрыла глаза, и они загорелись чисто зеленым блеском; Пан уверял, что они зеленеют, когда она его больше любит.
– Ну, теперь хорошо? – весело спросила она. Он посмотрел на нее с беспокойством: она была еще так молода, а между тем она так манила его своими наивно-страстными глазами…
Он наклонился, обнял ее и стал целовать так неистово, что сделал ей почти больно.
Она забыла про свой вопрос, который она только что задала; мир показался ей местом, где пурпурный вереск сходится с пурпурным небом, где веет теплый летний ветерок с моря и где любовь – такая жгучая радость, что она граничит со страданием.
Они долго лежали так, обнявшись. Пан достал папиросу, и они стали курить ее вместе, болтая, как только умеют болтать влюбленные, смеясь над пустяками, бесконечно, беспредельно счастливые.
Вдали по дороге проезжали велосипедисты, автомобили.
– Кому до них дело? – заметил Пан с пренебрежением.
– Наверное, время пить чай, – сказала Дора, – дорогой мой, нам надо спешить, иначе мы никак не поспеем домой к обеду.
– Кого это может беспокоить? – отозвался Пан, устремив на Дору свой жгучий взгляд. – Вас?
– О нет, нисколько, – ответила она. – Пока мы вместе, меня ничто не беспокоит, хотя бы мы никогда никуда не доехали.
Глаза Пана заблестели.
– Мне хотелось бы знать, серьезно ли думают женщины то, что говорят, – медленно сказал он.
Дора, которая в это время раскладывала корзинку с провизией, засмеялась.
– Эта женщина думает то, что говорит, – сказала она, – вы да я, вы да я, Пан…
Она подошла к нему и стала около него на колени.
– Мне кажется иногда, точно между нами и прочим миром упал занавес и мы стоим по одну сторону от него в полном, восхитительном одиночестве.
– Вы думаете, что влюбленные имеют на это право? – Он немного побледнел под загаром и остановился в нерешительности. – Считаете ли вы, что они имеют право устанавливать для самих себя законы, что они, как вы говорите, могут отгородиться от прочего мира, имеют право жить только для себя?
– Да, мне кажется, я имела в виду именно это.
Она посмотрела на него не без смущения. Ее удивляло, что Пан придает такое значение ее словам, которые были не чем иным, как обычной любовной болтовней.