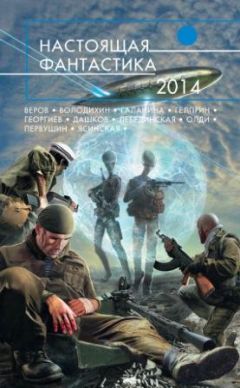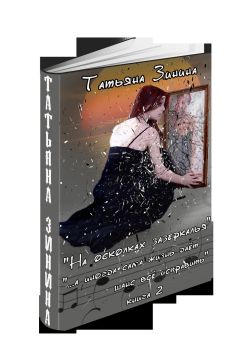На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
— Твоей вины…
— Я виноват, — прервал он ее. — Не утешай и не спорь. Я виноват! Ты даже себе не представляешь, как часто я представлял, что делаю все иначе в те первые дни войны. Я не ухожу от вас в то утро. Или забираю вас вместе с собой в Дрозды на дачу за своими. Или не слушаюсь отца… Я не общался с ним почти четыре года. Не виделся во время отпусков, не писал, — признался Костя, и эта откровенность отозвалась неприятным ощущением в груди Лены. Она помнила Соболевых дружной семьей. Узнать, что в ней случился разлад, было больно. Особенно из-за того, что именно она стала причиной этой ссоры, ставшей пропастью между отцом и сыном.
— Отец обещал мне, что позаботится о вашей эвакуации, если это потребуется. Он дал мне слово, поэтому я поддался на его уговоры сопровождать маму и бабушку. Отец сказал, что мне нужно отвезти их в Оршу, откуда они в случае нужды смогут уехать дальше — в Смоленск и Москву, где их готовы принять друзья семьи. Я думал, что я успею вернуться! Думал, что вывезу своих из города, и вернусь за вами. Но бабушка…. Сердце, ты же помнишь, оно у нее постоянно барахлило. Папа приказал ехать не в Минск в больницу, а дальше. Мы довезли ее до больницы в Орше, и там у нее случился удар. Отнялись ноги. Я не мог оставить их одних в том хаосе, что творился тогда. Я не мог, понимаешь?! А потом стало поздно — немцы заняли Минск… мне пришлось повернуть обратно… Я пытался прорваться к вам, Лена. Но мне пришлось повернуть обратно! Я так ненавидел себя за это решение потом…
Лена прервала его, все-таки взяв его за руку, когда расслышала нотки в его голосе, что цепляли ее за душу и рвали ее маленькими крючками. Не хотелось, чтобы он и дальше чувствовал эту боль, стократно большую, чем ее.
— Знаешь, а мне было легче так, — призналась она после минутного молчания, когда не нужно было слов при этом поддерживающем пожатии, в котором так тесно сплелись их пальцы. — Думать, что вы где-то там, далеко от всего этого ужаса. Что вы успели выбраться. Я так боялась, что вас могли убить, когда немцы сгоняли жителей из Дроздов… ты ведь знаешь, там ведь…
— Концлагерь был. Да, знаю, — подтвердил глухо Костя. — Дачи там больше нет. Ее разграбили и сожгли нацистские ублюдки в первые же дни. И мест нашего детства тоже больше нет. Они все испоганили, немецкие твари! И квартиры нашей тоже больше нет, как и дома в целом. А ваш дом в Минске еще стоит, знаешь? Правда, в ваших комнатах живут жильцы. В Минске теперь сложности с жильем, поэтому квартира попала под перераспределение и уплотнение. Личных вещей не осталось совсем. Ни альбомов с фотокарточками, ничего…
Это было неудивительно после нескольких лет оккупации, когда квартиру занимали захватчики. Но все же было больно понимать, что от ее родного дома не осталось ничего. И даже самого дома у Лены уже больше не было. Теперь он принадлежал новым жильцам. Возвращаться было некуда, да и не к кому. От этой мысли перехватывало всякий раз в горле, что становилось сложно дышать. Война отняла у нее все — дом, семью и родных, профессию, в которую она больше никогда не сможет вернуться. Как жить дальше и для чего? За что уцепиться сейчас, когда одно из самых важных желаний — чтобы закончилась война — сбылось, а оснований для других уже не стало?
— Почему ты не обратилась за помощью в органы? — прервал ее мысли Соболев. — Почему по-прежнему живешь под немецким именем, да еще и работаешь на немцев? Разве ты не хочешь вернуться на родину?
— Потому что… — Лена чуть запнулась при ответе здесь. Признаться, что ей было страшно рассказывать о своей судьбе, учитывая обвинения на родине. — У меня на руках нет никаких подтверждающих бумаг. Согласись, это вызвало бы немало подозрений — кто я и откуда, и действительно ли я советская гражданка. Поэтому я решила переждать, пока не придумаю, что делать дальше.
Пока не узнаю что-либо о судьбе Рихарда, добавила она мысленно еще одну причину — самую главную, которая держала ее в Германии. Костя посмотрел на нее как-то странно, словно угадав о том, что она не совсем откровенна с ним, и ей пришлось приложить усилия, чтобы выдержать этот взгляд и не показать, как ей больно обманывать его сейчас. Но говорить откровенно о своем прошлом и о своих надеждах она никак не могла. По крайней мере, пока.
— Пауль рассказывал мне, что неоднократно видел расстрелы тех, кто работал на немцев. Надзиратели, подсобный персонал при войсках, солдаты РОА, иногда рабочие военных заводов. Без суда и следствия. Сразу же, на месте, — завуалированно озвучила Лена свои давние страхи, желая, чтобы Костя сейчас сказал, что это все неправда.
— Они все предатели своей страны, — отрезал Соболев, недовольно поджимая губы и не глядя ей в глаза. И надежда на то, что немец мог ее обманывать, растаяла окончательно.
— Ты сам сказал, что обо мне думают точно так же в Минске. Даже ты думаешь так до сих пор. Несмотря на то, что я рассказала.
— Согласись, твоя ситуация довольно… необычна, — подобрал слово помягче Костя. — Но боится только тот, у кого есть причины для этого. Скажи мне честно — у тебя есть?
Можно было сказать ему сейчас про Рихарда. Можно было признаться. Но те тайны, которые можно было попробовать доверить когда-то Косте, не расскажешь сейчас капитану Соболеву. Ведь Лена уже знала, что связь с немцем была преступлением. Слышала, как обсуждал подобные истории Безгойрода, помнила недавнюю историю, что принесла с рынка Кристль, в последнее время собирающая любые новости о том, как относятся русские к своим бывшим соотечественникам после окончания войны. А вестей об этом было мало — только эта грустная история о двух юных влюбленных, так похожая чем-то на прошлое Лены.
Она — семнадцатилетняя остработница. Он — восемнадцатилетний немец. Он защищал и оберегал ее на протяжении нескольких лет от других немцев, а она прятала его в погребе от повсеместной в рейхе мобилизации последних месяцев. Им казалось — с окончанием войны они наконец-то будут свободны и смогут пожениться. Они ошибались. По слухам, которые принесла Кристль, такой брак был строжайше запрещен советской стороной, а о том, чтобы девушке остаться в Германии — нельзя было даже и думать. И после регистрации как «перемещенного лица», обязательного для всех советских граждан, ее в кратчайшее время отправили на родину, предупредив обе стороны о нежелательности дальнейшей переписки. Забыть обо всем — вот, что ждало их впереди. И новые жизни, в которых никогда не будет возможной новая встреча.
Любить врага — преступление. Это было во время войны с обеих сторон, это осталось и после. Победа не изменила ровным счетом ничего.
Лена с самого начала понимала неправильность того, что чувствовала к Рихарду. Понимала разумом. Потому что сердце отказывалось верить в это. Но когда доводы сердца одерживали верх над твердыми доказательствами рассудка?
Поэтому да, у Лены были причины бояться при том прошлом, что она несла на своих плечах. И при том, что совершенно не желала забывать это прошлое и боялась, что у нее отнимут даже малейший шанс на возможное будущее, как отняли у той неизвестной ей молоденькой остработницы, осмелившейся полюбить немца.
Глава 61
Тот вечер, завершившийся у калитки домика на Егерштрассе, стал началом новых отношений Кости и Лены. Они совсем не были похожи на те прежние, что были до войны. Исчезла легкость и дружеская игривость, что прежде царили между ними. Кроме того, подозрения Кости, которые все еще не давали ему покоя, как видела Лена, по-прежнему держали между ними дистанцию. Не давало преодолеть это расстояние и чувство вины Лены перед Соболевым за то, что не могла быть откровенной с ним во всем, а особенно — за свою отчаянную любовь к Рихарду.
Соболев часто провожал Лену к домику на Егерштрассе после работы в конторе, перехватив эту обязанность у Пауля. Узнав о сложном положении в доме Гизбрехтов с едой, он стал приносить часть своего пайка и то, что порой покупал в магазинах военторга, предназначенных исключительно для советских войск. Подарив тем самым Лене невероятный подарок однажды — кулек гречневой крупы, по каше из которой она так соскучилась за эти годы. Соболев даже изменил свое отношение к Гизбрехтам со злого пренебрежения на холодно-отстраненное равнодушие и порой оставался на совместный ужин, чтобы подольше побыть с Леной, с которой проводил все больше и больше свободного времени по вечерам.