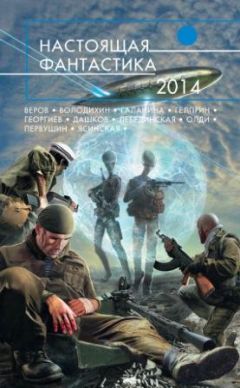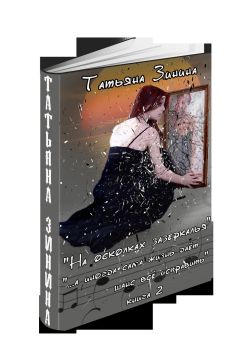На осколках разбитых надежд (СИ) - Струк Марина
Приход доктора затронул что-то такое в Лене, что заставило сердце в который раз затрепетать в груди пойманной в силок птицей. Она видела, что Гизбрехты, вошедшие в комнату вместе с советским офицером, с трудом скрывают свое волнение, которое любой бы, не знающий истинной его причины, принял за тревогу о здоровье родственницы. Может, частично это было и так, но Лена понимала истинную его природу.
Военный врач, представившийся Лене строго по званию и фамилии («майор медицинской службы Куприенко»), был немолод. Седина уже посеребрила его волосы, а лоб избороздили морщины. Он принес с собой смесь запахов: лекарства, воск для сапог и резкий запах одеколона.
Лене безумно хотелось услышать русскую речь. Убедиться, что этот немолодой мужчина в знакомо-незнакомой форме с погонами, которые когда-то были в армии при царизме, как она помнила по старым фотографиям, действительно офицер Красной армии. Что это не какой-то странный сон, который порой приходил прежде ночами, даря бессмысленные надежды. Но она не могла заговорить с ним по-русски, не выдав себя и заодно Гизбрехтов. Только на немецком языке, который доктору был не слишком хорошо знаком, отчего он говорил с жутким акцентом, и ему приходилось иногда использовать термины на латыни, чтобы Пауль мог понять, о чем идет речь.
— Скоро вы сможете встать с постели, — заверил ее доктор. — Через два-три дня. Нам удалось уйти от худшего варианта событий, несмотря на легкую дистрофию. Вы молоды, организм достаточно силен.
— Когда я смогу быть такой, как раньше? — спросила Лена. Она хотела, чтобы доктор задержался подольше. Просто сидел рядом с диваном на стуле, как сидел сейчас. Смотреть на звезды на его погонах. Слышать русский акцент в его речи. Это был первый свободный советский человек, которого она видела за годы, не военнопленный или ост-работник, и она наслаждалась пониманием этого. И была благодарна Кристль за то, что та предложила ему выпить чашечку эрзац-кофе, от которого тот отказался, впрочем. Было заметно, что он торопился вернуться в госпиталь, к своим обязанностям. Или ему просто было не совсем комфортно в доме немца, пусть и коммуниста, и потому он так спешил уйти.
— Мне нужно попасть в Дрезден, доктор, — призналась Лена тихо, чтобы ее слышал только военврач, а не Пауль, сидевший чуть поодаль во время осмотра, чтобы не нарушить интимность и не смутить девушку.
Решение пришло неожиданно быстро. Она наберется сил и поедет в Дрезден в основную комендатуру. Именно там она спросит, что ей следует сделать, чтобы снова стать Еленой Дементьевой. Вернуть не только свое имя, но и прежнюю себя. Об участии в ее жизни семьи Гизбрехт она умолчит, чтобы не навредить им ничем, как того опасается Пауль.
Об остальном — намеках на возможный арест или казнь как предательницы, Лена старалась думать, что это все какое-то недоразумение. Она ведь не предательница. Во всем непременно разберутся, как это произошло с коллегой дяди Паши Соболева, арестованного за пару лет до войны. Они тогда были на даче Соболевых в Дроздах, и мама с тетей Шурой обсуждали шепотом последние новости, стараясь, чтобы Лена, перебирающая крыжовник для компота, не уловила ни слова из их разговора. Но она слышала. Почти каждое слово.
Коллегу дяди Паши увезли из дома рано утром, и по заводу тут же пошли слухи, что он вредитель, враг народа. «Паша ни на секунду не сомневался в том, что это так, — шептала тетя Шура маме. — Его товарищ, преданный коммунист, верный своему слову и товарищу Сталину. Паша был уверен, что во всем разберутся. Писал во все инстанции, что произошла чудовищная ошибка. Так и вышло. Разобрались. Через три недели отпустили». «Павел не побоялся вступиться?» — спросила тогда мама. «Честному человеку нечего бояться», — уверенно ответила тетя Шура. И Лена повторяла сейчас эти слова как заклинание.
Честному человеку нечего бояться. А она честна перед своей страной. Потому что все, что от нее зависело, она сделала. Единственный ее проступок перед страной и народом — любовь к немцу. Но разве за чувства можно карать, если в остальном она чиста?
— Думаю, не раньше, чем через неделю. А если собираетесь в город пешком, не на транспорте, как минимум три недели.
— Это очень долго, — огорчилась Лена, и доктор как-то грустно улыбнулся этой фразе и заверил, что у нее еще впереди много времени. Он подумал немного, а потом предложил ей прийти к госпиталю через полторы недели.
— По вторникам мы отправляем машину на склад в Дрезден. Я могу попросить шофера взять вас с собой. Если вам не будет страшно, — добавил он, аккуратно подбирая слова. — Вы ведь знаете, где госпиталь, верно? Мы занимаем то же здание. Я читал ваше дело. Вы работали когда-то там.
Эти слова ошеломили Лену, и это не укрылось от внимательного взгляда ее собеседника.
— Вы не знали, что в госпитале были дела всех сотрудников? Архив не был уничтожен. Все бумаги остались на полках. Я узнал вас по фото в одной из папок. Немцы — известные аккуратисты. Они собрали максимум информации на каждого, кто работал в госпитале.
— И где сейчас это дело? — не сумела сдержать своего любопытства Лена, стараясь не впадать в панику при мысли о том, что могло быть внутри этой папки.
— Не знаю, фройлян, — ответил как-то холодно врач, чувствуя в ней перемену настроения. — Как и было приказано, мы отдали все дела в комендатуру.
Мысли о содержании бумаг, которые собрали на нее нацисты, Лена постаралась спрятать в том же темном углу своего разума, где под надежным замком прятала мысли о судьбе Рихарда. Они только тревожили раны, мешали набираться сил, которые Лене сейчас были необходимы как никогда. И в этот же темный угол она отправила мысли о будущем, которое ее ждет.
Здесь и сейчас. Старое доброе заклинание, которым она жила во время войны. Уцепиться за настоящее. Задержаться в моменте. Потому что будущее слишком пугающее и слишком туманное, как ночной кошмар, который хочешь сразу прогнать из памяти.
Лена не сумела восстановиться к ближайшему вторнику, как ни пыталась. Доктор обещал ей неделю, но все сложилось гораздо дольше. Сначала она научилась ходить заново по первому этажу, постепенно укрепляя ослабевшие за дни болезни мышцы. Затем ей покорился задний двор и лес за ним, где она любила гулять, несмотря на опасения Кристль, что там ее «непременно подкараулит кто-то из русских солдат и причинит плохое». После Лена стала ходить до центра Фрайталя и обратно. Правда, вместе с Паулем, который поддерживал при необходимости под руку и, как полагала Лена, следил, чтобы она не «натворила глупостей». Потому что в центре Фрайталя были советские солдаты.
Они стояли на карауле у комендатуры и администрации городка, патрулировали станцию, все еще лежащую в руинах, но принимающую поезда, и улочки городка. Они суетились на складах продовольствия, разгружая и загружая грузовики. Или просто прогуливались по центру Фрайталя, наслаждаясь увольнительными и с удовольствием вступая в диалоги с немецкой детворой, которая частенько любила крутиться вокруг них, надеясь на угощение. Или играли в футбол на заднем дворе госпиталя, все еще в бинтах и с перевязями рук, но неутомимо атакующие полусдутый мячик под возбужденные крики болельщиков, которым игра была все еще недоступна.
Когда Лена увидела первый раз советских солдат на площади городка и услышала их речь, она расплакалась. Стояла и плакала, не в силах обуздать нахлынувшие эмоции при звуках родной речи и таких долгожданных лиц.
Русские действительно были здесь, в Германии. Не было больше нацизма и страха, который кровью и потом победили советские войска. Наконец-то наступил мир, который принес с собой аромат первой зелени и цветов и надежду на что-то новое. Надежду на будущее, которое ждало впереди.
Лена осмелилась поехать в Дрезден только еще через неделю. Ей было стыдно, что она обманула Кристль, сказав, что идет в госпиталь поблагодарить врача за свое выздоровление, но поступить иначе она не могла. Больше шанса ускользнуть из дома у нее вряд ли бы представилось, чем тогда, когда Пауль уехал на очередную встречу со своими соратниками по партии.