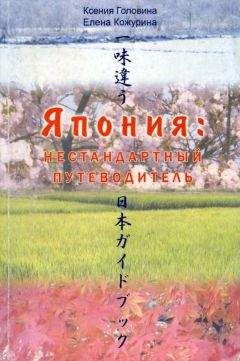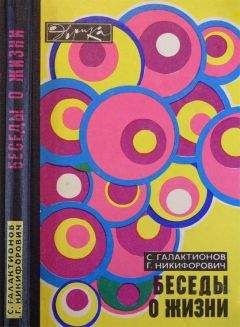Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
Когда в 1932 г. Эдгар Эдриан был удостоен (совместно с Чарльзом Шеррингтоном) Нобелевской премии за «открытия, касающиеся функций нейронов», в своей нобелевской речи он упомянул вклад Като в устранение первоначальных заблуждений [1045]. В 1944 г. Нобелевскую премию получили и Гассер с Эрлангером — «за открытия, имеющие отношение к высокодифференцированным функциям отдельных нервных волокон» [1046].
В то время как другие учёные развивали исследования Эдриана, сам он постепенно отошёл от изучения влияния анестетиков на распространение нервных сигналов, сосредоточившись на более общих вопросах, связанных с генерацией и распространением нервных импульсов. Например, ему впервые в истории науки удалось зарегистрировать электрическую активность отдельной клетки. Благодаря работам Эдриана мы узнали, что частотно-импульсная модуляция [1047] — это способ, при помощи которого нервные клетки могут представлять информацию в виде электрических сигналов. Более того, термин «информация» в нейрофизиологическом контексте, по-видимому, впервые был использован именно Эдрианом — в 1928 г. он применил его для обозначения сообщения, связанного с электрическими нервными импульсами сенсорных волокон [1048].
Интересно, что вклад Эдриана в развитие нейрофизиологии не ограничился его собственными исследованиями. Например, именно он привлёк внимание научной общественности к исследованиям Бергера. К 1933 г. немецкий учёный опубликовал семь из четырнадцати своих отчётов, и все они остались не замеченными коллегами и прессой. Когда Эдриан впервые познакомился с работами Бергера в 1934 г., он поначалу скептически отнёсся к этому исследованию и решил повторить эксперименты Бергера, рассчитывая, что ему удастся опровергнуть существование альфа-волн. Каково же было его изумление, когда он обнаружил эти волны в мозгах коллег по лаборатории! Эдриан использовал свой авторитет нобелевского лауреата и знаменитого электрофизиолога для популяризации работы, которая изначально не нравилась даже самому Бергеру, причём настойчиво подчёркивал вклад последнего, дав альфа-волнам альтернативное название «ритм Бергера».
Помимо привлечения внимания общественности к открытиям Бергера, Эдриан и его коллега Брайан Мэтьюз значительно усовершенствовали машину немецкого учёного, снабдив её усилителем сигнала, а также реализовав возможность записи сигнала одновременно из нескольких областей мозга. Кроме того, Мэтьюз собрал струйный осциллограф для улучшения визуализации регистрируемых сигналов. С помощью этого оборудования Эдриан и Мэтьюз подтвердили многие открытия Бергера и представили собственные данные. Например, они отметили, что альфа-ритм был особенно сильным, когда электроды располагались над затылочной долей мозга, которая, как считалось (и считается), задействована в обработке зрительных сигналов. Эдриан и Мэтьюз проанализировали зависимость данных электроэнцефалограммы в различных визуальных условиях (например, в полной темноте, при вспышках света и т. д.) и пришли к выводу, что альфа-ритм специфичен для нейронов, обрабатывающих зрительную информацию, — интерпретация, которая противоречила утверждению Бергера о том, что альфа-волны — это результат работы всего мозга в целом, связанный с умственной деятельностью. Признавая, что его собственный альфа-ритм практически неотличим от альфа-ритма водяного жука, Эдриан не решился связать его со сложным познавательным процессом [1049].
Что же касается Като, то он так и не стал лауреатом Нобелевской премии, хотя и был неоднократно номинирован на неё, в том числе и Иваном Петровичем Павловым. Как и опыты Эдриана, эксперименты Като оказали большое влияние на дальнейшее развитие нейрофизиологии. Стремясь преодолеть трудности, связанные с интерпретацией экспериментов по блокированию проводимости нервных стволов, и доказать свою «теорию неубывания», Като и его коллеги разработали в начале 1930-х метод, который позволил производить анатомическое разделение живого нервного волокна. Эта процедура послужила важным подспорьем при изучении «микрофизиологии» нервов, в частности для исследования роли перехватов Ранвье в распространении нервных импульсов в миелинизированных волокнах.
Немного о термине «миелинизированные». Дело в том, что оболочки нервных волокон позвоночных значительно различаются по своему строению, и в зависимости от этого оболочки разделяют на миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные), последние сходны по строению с нервными волокнами беспозвоночных. Сами же волокна, в зависимости от типа оболочки, называют миелинизированными или немиелинизированными. Те и другие состоят из отростков (аксонов) нервных клеток, но в случае миелинизированных волокон аксоны окружены электроизолирующей оболочкой. Миелиновая оболочка состоит из глиальных клеток: в периферической нервной системе это шванновские клетки, а в центральной нервной системе — олигодендроциты. Данная оболочка формируется из плоского выроста тела глиальной клетки, который многократно оборачивает аксон подобно изоленте. Цитоплазма в этом выросте практически отсутствует, поэтому миелиновая оболочка по сути представляет собой множество слоёв клеточной мембраны.
Миелинизированные нервные волокна характерны для соматического отдела нервной системы, управляющего скелетной мускулатурой, а для вегетативного отдела, регулирующего деятельность внутренних органов, характерны немиелинизированные волокна.
В покрытии миелинизированных волокон по всей их длине регулярно (через каждые 1–2 мм) расположены микроскопические разрывы миелиновой оболочки, получившие название перехватов Ранвье — в честь своего первооткрывателя, французского гистолога и анатома Луи Антуана Ранвье. По сути, перехваты Ранвье — это промежутки между двумя смежными клетками, образующими миелиновую оболочку нервного волокна. Хотя перехваты Ранвье открыты ещё в XIX в., их функция долгое время оставалась неясной.
Но, благодаря экспериментам Като по блокированию проводимости, в 1950-х гг. Исидзи Тасаки, Тайджи Такеуси, Эндрю Хаксли и Роберт Штемпфли смогли провести исследования отдельных волокон и установить сальтаторный (скачкообразный, от лат. saltare — прыгать, скакать) характер проводимости в миелинизированных нервах.
О том, какие конкретные биологические и электрохимические механизмы лежат в основе сальтаторной проводимости и нервной проводимости вообще, мы поговорим в следующем разделе.
4.2.5 Два английских джентльмена и долгопёрый прибрежный кальмар
Дальнейшее развитие идей Лапика в рамках вычислительной нейробиологии привело к появлению множества более точных и полных моделей биологического нейрона. В их числе модели «интегрировать-и-сработать с утечками» [leaky integrate-and-fire], «интегрировать-и-сработать с утечками дробного порядка» [fractional-order leaky integrate-and-fire], модель Гальвеса — Лёкербаха [Galves–Löcherbach model], «экспоненциальный вариант модели „интегрировать-и-сработать“» [exponential integrate-and-fire] и многие другие. Поскольку погружение в пучины вычислительной нейробиологии стоило бы нам нескольких сотен страниц, переполненных формулами и экспериментальными данными, мы остановимся здесь только на одном из ключевых исследований в этой области, обойти которое никак нельзя — тем более что его авторы в 1963 г. получили за него Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Речь, разумеется, об исследованиях сэра Алана Ходжкина, ученика Эдриана, и сэра Эндрю Хаксли. Эти два почтенных английских джентльмена навсегда останутся в истории науки благодаря тому, что любили резать кальмаров не только за ужином, но и на протяжении всего рабочего дня.
Интересно, что Эндрю Хаксли был не только братом другого знаменитого биолога, Джулиана Хаксли, одного из основателей Синтетической теории эволюции, не только братом знаменитого писателя Олдоса Хаксли (подарившего миру знаменитый роман-антиутопию «О дивный новый мир»), но и внуком Томаса Гексли, известного учёного-эволюциониста и популяризатора науки, получившего прозвище Бульдог Дарвина. Как вы уже, наверное, догадались, Гексли и Хаксли — это одна и та же фамилия, которую в разные годы по-разному записали по-русски.