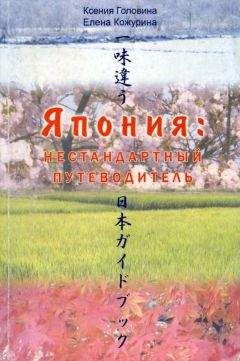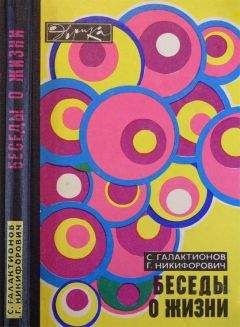Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
Ещё одним важным шагом вперёд стало появление чувствительного катодного осциллографа, созданного инженерами компании Western Electric. Хотя инженеры компании и оказывали некоторую помощь учёным в работе над многокаскадным усилителем, Western Electric отказалась продать исследователям экспериментальную катодную лампу, лежащую в основе устройства, поэтому Гассеру и его коллегам пришлось самостоятельно смастерить её аналог в своей лаборатории. Подключив осциллограф к усилителю, Гассер и Эрлангер впервые в истории смогли получить временну́ю развёртку отдельных нервных импульсов.
Этот технологический прорыв принёс учёным удивительное открытие: оказалось, что то, что прежде считалось отдельным потенциалом действия, на деле представляло собой совокупность импульсов от различных типов аксонов, сплетённых вместе в единое нервное волокно. Исследования различных нервов показали, что нервные импульсы быстрее распространяются вдоль толстых аксонов, чем вдоль тонких. Это стало блестящим подтверждением гипотезы, предложенной в 1907 г. шведским физиологом Густавом Гётлином. В конце 1920-х гг. Эрлангеру и Гассеру удалось показать, что слабо концентрированный раствор местного анестетика, обеспечивающий эффективную блокаду тонких нервных волокон, неспособен блокировать распространение нервного импульса в толстых волокнах [1041], [1042]. Интересно, что в исследованиях Лукаса и Эдриана эффективность блокады нервного импульса парами алкоголя зависела от протяжённости участка блокады, что на первый взгляд выглядело весьма логично. Однако, когда этот результат попыталась произвести группа японских исследователей во главе с Гэнъити Като, выяснилось, что результаты экспериментов не согласуются с наблюдениями Эдриана.
Като не смог подтвердить зависимость времени достижения полной блокады нервной проводимости от длины участка нерва, подвергающегося обработке парами алкоголя. Эксперимент Эдриана был повторён с большой точностью с использованием различных анестетиков (алкоголя, хлороформа, уретана, хлоралгидрата, кокаина): время достижения блокады (определяемое путём регистрации сокращений мышц или измерением амплитуды электрического сигнала на участках нерва, расположенных после затронутой алкоголем зоны) было одинаковым вне зависимости от протяжённости данной зоны. Като предположил, что ошибка в опытах Эдриана была связана с тем, что при малой длине затронутого парами алкоголя участка не удавалось добиться той же концентрации паров, как в случае более длинного участка [1043]. Этот результат вызвал нешуточную полемику в среде нейрофизиологов. Выводы Лукаса и Эдриана активно поддерживал немецкий физиолог Макс Ферворн, авторитет которого был чрезвычайно высок. Именно с его именем ассоциировалась в первую очередь «теория убывания» [decrement theory], в основе которой лежало предположение о том, что сила нервного импульса убывает постепенно по мере прохождения участка блокады. Като же стал основателем альтернативной парадигмы, получившей название «теория неубывания» [decrementless theory]. Драматизма этой полемике добавила позиция учителя Като — Хидэцурумару Исикавы, который был учеником Ферворна. Като впервые представил свои результаты на собрании Японского физиологического общества, состоявшемся в Фукуоке в апреле 1923 г. Вот как сам Като описывает реакцию учителя на свой доклад:
Когда я уже собирался ликуя сойти с трибуны после прочтения своей статьи, он, покраснев от ярости, встал и сказал мне, что «подвергать критике профессора Ферворна так, как это сделано в таком незрелом исследовании, как ваше, — акт высокомерия. Верите ли вы, что такие обширные экспериментальные результаты, как у профессора Ферворна и доктора Лукаса, можно объяснить при помощи такой дрянной идеи, как теория неубывания? Дайте мне два часа, и я разнесу теорию Кейо (университета, где работал Като. — С. М.) на куски! Что скажете?» Гром среди ясного неба! Он был искренним последователем этих двух учёных. Несколько лет он учился у Ферворна. Я, побледнев, замер в углу сцены, не проронив в ответ ни слова из тех возражений, которые можно было бы представить в ответ на его яростный упрёк. Опустив глаза, я вернулся на своё место. В моей жизни не было ничего более шокирующего. Я не мог понять, почему профессор Исикава так покраснел от гнева, потому что был твёрдо уверен, что он меня похвалит. Я был достаточно глуп и не знал, что нельзя оценивать людей своей меркой.
Несмотря на столь тяжёлый удар, Като опубликовал результаты в монографии «Теория неубывающего распространения» (The Theory of Decrementless Conduction), которая была завершена в 1924 г. Он разослал работу по ведущим университетам мира и в том же году получил подтверждение своей теории в опытах Форбса, который воспроизвёл опыты Като, используя нервы кошек. Чтобы окончательно убедить научный мир в своей правоте, Като и его коллеги решили представить полученные результаты на XII Международном конгрессе по физиологии, который должен был состояться в Стокгольме в 1926 г.
Надо сказать, что воплощение в жизнь этого плана было связано с нешуточными трудностями: Като и его коллеги ставили свои опыты на японских черепахах, которые могли и не перенести предстоящее многодневное путешествие по Транссибирской магистрали. Хищные черепахи признавали только живую пищу, что создавало учёным дополнительные проблемы. Советская Россия 1920-х гг. представлялась довольно опасным местом — по словам Като, «все железные дороги и станции были заняты рабочими и крестьянами». Впрочем, советские власти снабдили Като и его коллег специальной «защитной грамотой», так что учёным удалось без ущерба здоровью добраться до Стокгольма, чего, к сожалению, нельзя было сказать о черепахах — несмотря на все принятые меры предосторожности, животные не пережили путешествия.
К счастью для Като и его коллег (и к несчастью для лягушек), замену удалось найти на месте.

Вот как описывает сам Като ход экспериментов:
Доктор Фёлих (последователь Ферворна) был весь внимание и наблюдал за происходящим широко открытыми глазами. В наркотизирующей камере были натянуты два отрезка седалищных нервов (длиной 3,0 и 1,5 см), взятые с правой и левой стороны одной и той же лягушки из Голландии. Время угасания [нервных импульсов] предполагалось измерить в присутствии зрителей. Результаты были следующими: в более длинном отрезке проводимость была полностью приостановлена спустя 24 минуты и 16 секунд, а в более коротком — спустя 24 минуты и 15 секунд, и хотя в случае последнего процесс занял на секунду меньше, но время было практически одинаковым. Как отмечалось позже, моё объявление о результатах эксперимента было слишком напряжённым, точнее — мой голос срывался на фальцет под влиянием переполняющего меня восторга. Меня не так сильно волновал второй эксперимент, потому что провал в нём был значительно менее вероятен. Как и ожидалось, два импульса, сильный и слабый, исчезли одновременно. Но оставался ещё третий эксперимент — по разрезанию. К этому моменту я в целом успокоился. По истечении времени угасания [нервных импульсов] в наркотизированной области в неё были даны два электрических стимула, сильный и слабый. Слабый стимул не вызывал мышечных сокращений, в отличие от сильного. До этого момента всё было так, как утверждал Ферворн. Сразу после этого наркотизированная область должна была быть разрезана в том месте, куда подавался электрический стимул. Это должно было показать, что сильный электрический стимул вызывает сокращение мышцы, в то время как разрез (механическое раздражение) не вызывает его. Когда доктор Утимура сразу после электрической стимуляции собрался выполнять разрез, из глубины зала раздался голос: «Отсюда не видно состояния мышц!» Действительно, многие наблюдатели хотели своими глазами увидеть, будет ли сокращаться мышца или нет. Это был доктор Бёйтендейк, профессор Университета Гронингена в Голландии, бывший ближе всего к столу, который предложил объявлять остальным, будет ли движение мышцы или нет. Доктор Утимура снова взял ножницы и поднёс их к нерву, чтобы разрезать его. Его рука дрожала; это могло оказать некоторое давление на нерв и привести к сокращению мышцы. У меня не хватило смелости наблюдать сам момент разреза. Шли секунды. Неожиданно прозвучало: «Keine Zuckung!!» [Нет сокращения!!] Это был голос профессора Бёйтендейка. Следом прозвучал другой возглас: «Revolution der Physiologie!» [Революция в физиологии!], автора которого я не смог определить. Учёные один за другим поздравляли меня и жали мне руку. Профессор Кремер из Берлина и профессор Ашер из Бернского университета похлопали меня по плечу и сказали: «Демонстрационные эксперименты обычно проходят не так хорошо, как это должно быть. Но сегодня они были необычайно успешны, просто превосходны». Здесь, в Японии, где я родился, ко мне никогда не относились с таким участием, едва не вызвавшим у меня на глазах невольные слёзы [1044].