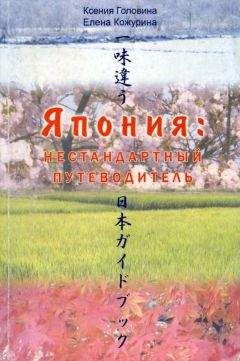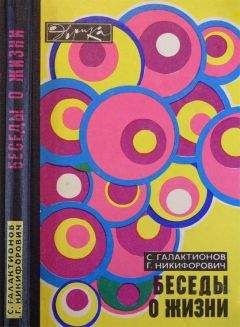Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
Эдгар Эдриан родился в 1889 г. в богатой лондонской семье. Хотя изначально его привлекали греческий и латинский языки, а также авторы классической эпохи, к 1906 г. у юноши пробудился интерес к естественным наукам. Два года спустя он начал посещать занятия в кембриджском Тринити-колледже, где быстро приобрёл репутацию очень умного и чрезвычайно трудолюбивого студента. В 1911 г., получив учёную степень по физиологии, Эдриан начал работать в лаборатории Лукаса. Сначала — над экспериментом, показывающим, что стимулы, близкие друг к другу во времени, могут суммироваться. Затем Лукас попросил его попытаться определить, действует ли принцип «всё или ничего» для нервов. Хотя Лукасу и удалось усовершенствовать оборудование, но всё же в 1911 г. оно было недостаточно точным, поэтому Эдриан при поиске ответа на главный вопрос был вынужден полагаться на косвенный метод. Последний заключался в том, чтобы поместить сегмент изолированного нерва лягушки в камеру, наполненную парами алкоголя в концентрации, позволяющей ослабить нервный импульс, но не блокировать его полностью [1032]. Метод не был изобретением Лукаса и Эдриана: впервые его применил, ещё в XIX в., немецкий медик Альфред Грюнхаген [1033], а затем развил немецкий же физиолог Макс Ферворн, которому удалось показать, что величина стимуляции не влияет на способность нервного импульса преодолевать затронутую алкогольными парами зону [1034].
Эдриан предположил, что если соблюдается принцип проводимости «всё или ничего», то импульс должен быстро восстановить свою силу после того, как покинет зону воздействия алкоголя. Чтобы проверить эту гипотезу, Эдриан решил расположить на некотором расстоянии от первой затронутой алкоголем зоны вторую и измерить, насколько сильной должна быть в ней концентрация паров алкоголя, чтобы полностью блокировать импульс. Выяснилось, что концентрация паров алкоголя во второй зоне для полной остановки импульса должна быть столь же высокой, как и их концентрация в первой зоне для остановки неослабленного импульса. Эдриан также обнаружил, что вывод Лукаса в отношении мышц выполняется и применительно к нервам: если уровень раздражителя достаточен, чтобы вызвать нервный импульс, то сила данного импульса не зависит от уровня раздражителя (от едва заметного до очень сильного).
Эдриан полагал, что для продолжения исследований ему следует получить медицинское образование, и в 1914 г. он начал клиническую подготовку в лондонском госпитале Святого Варфоломея. К сожалению, Первая мировая война нанесла непоправимый удар по совместным экспериментам учёных. В 1915 г. Эдриан после получения медицинской степени стал врачом и лечил солдат с поражением нервов, контузиями и истерическим параличом. Лукас же присоединился к исследовательскому коллективу Королевского авиационного завода в Фарнборо, где использовал свои инженерные навыки для разработки новых бомбовых прицелов и авиационных компасов. Но в 1916 г. в результате нелепой случайности жизнь Лукаса прервалась — во время испытания авиационного оборудования его самолёт столкнулся с другим над равниной Солсбери.
После потери наставника Эдриан взял на себя ответственность отредактировать и опубликовать незаконченную книгу Лукаса [1035], [1036] — «Распространение нервного импульса» (Conduction of the Nervous Impulse) [1037], которая увидела свет в 1917 г. Эта работа подробно описывает эффекты, известные Лукасу и Эдриану: рефракторный период, суммирование нервных импульсов и принцип «всё или ничего». Безусловно, это были захватывающие достижения, но всё же оставалось чувство, что можно достичь гораздо большего — с помощью более чувствительных приборов.
Интересно, что человек, сумевший добиться существенного прогресса в этом направлении, в наши дни не так уж широко известен. Его звали Александр Форбс, и он происходил из богатой бостонской семьи — в «Википедии» вы легко найдёте множество статей, посвящённых его знаменитым родственникам. Мать Александра была дочерью поэта Ральфа Эмерсона, а отец — героем Гражданской войны и президентом телефонной компании Bell. Перед юным Александром было открыто множество дорог, и выбранная им привела его в Гарвард, где он занял главную позицию в футбольной команде университета. Занятия спортом подстегнули у Александра интерес к физиологии. В 1905 г. он получил степень магистра, а спустя ещё пять лет — доктора медицины. После этого Александр выбрал академическую карьеру и остался в стенах Гарварда уже в роли сотрудника факультета физиологии.
Большое впечатление на Форбса оказали исследования Чарльза Шеррингтона, занимавшегося исследованием синаптических связей. Именно Шеррингтон в 1897 г. ввёл в оборот и сам термин «синапс», предложенный специалистом по Античности Артуром Верралом [1038].
Для того чтобы лучше изучить работу учёного, Форбс попросил отпуск и вместе с женой отправился на корабле в Великобританию.
Во время поездки он познакомился с работой физиологических лабораторий Кембриджа. Возвратиться в США Александр поначалу предполагал на жемчужине роскошных лайнеров — только что спущенном на воду «Титанике». Однако общение с Лукасом и Эдрианом так увлекло Форбса, что он отменил первоначальное бронирование билетов для себя и своей жены ради того, чтобы провести вместе со своими новыми знакомыми несколько экспериментов. Кто знает, какой была бы история нейрофизиологии, если бы Форбс всё-таки отправился в этот злополучный рейс?
Прибыв домой на другом известном корабле, «Лузитания», Форбс заполнил свою лабораторию оборудованием, подобным тому, которое использовали Лукас и Эдриан. Среди прочего он обзавёлся улучшенным капиллярным электрометром вдобавок к струнному гальванометру Эйнтховена, который уже был на его факультете. Используя знания, полученные у Шеррингтона, Лукаса и Эдриана, Форбс начал с изучения рефлексов у кошек.
Когда разразилась Первая мировая война, он поступил на службу во флот — его и раньше привлекало море, к тому же у Форбса была собственная яхта, на которой он регулярно плавал. На флоте он применил свои инженерные познания для работы с электрической техникой. Именно здесь он впервые столкнулся с электронными лампами (тогда их называли «аудионами»), позволявшими усиливать радиосигналы с минимумом искажений. После окончания войны Форбс использовал эти лампы, чтобы сконструировать новый усилитель для физиологических исследований. В 1919 г., когда он подключил свой термоэмиссионный усилитель к цепи, включавшей нерв и струнный гальванометр Эйнтховена, он обнаружил, что может усилить едва уловимый нервный импульс в целых пятьдесят раз. В течение нескольких следующих лет Форбс подробно описал свой усилитель и провёл с его помощью несколько исследований. Большая часть из них подтвердила результаты других исследователей. Хотя сам Форбс и не сделал каких-либо прорывных открытий в области физиологии, но он смог совершить в этой области настоящую технологическую революцию, важность которой была немедленно признана другими нейрофизиологами.
Эстафету у Форбса приняли «аксонологи» [axonologists] (как называл их Форбс) Герберт Гассер и Джозеф Эрлангер из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis, WUSTL). Гассер вместе с талантливым конструктором Гарри Ньюкомером сконструировал многокаскадный усилитель. Это устройство позволяло передавать выходной сигнал одного лампового усилителя на вход следующего усилителя, что сделало возможным ещё большее усиление слабого входного сигнала. Строго говоря, Гассера, Эрлангера и Ньюкомера нельзя считать прямыми «наследниками» Форбса, поскольку собственные эксперименты по усилению нервных импульсов при помощи электронных ламп они начали ещё до вступления США в Первую мировую войну, однако Форбсу удалось первым опубликовать свои результаты [1039], [1040].