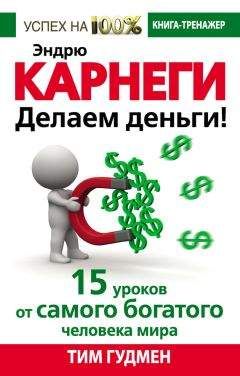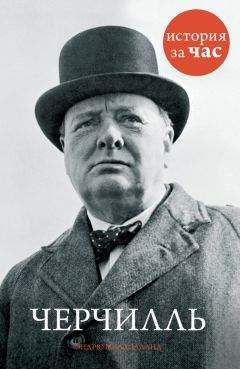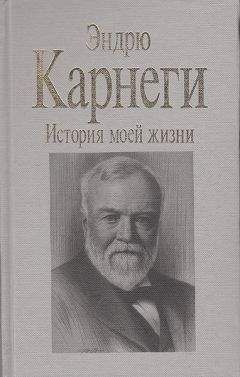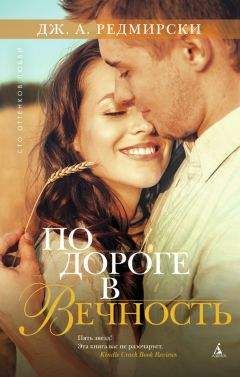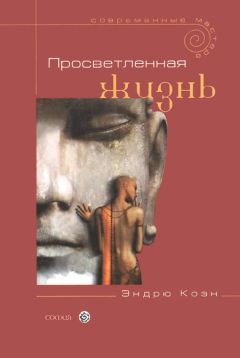Деньги, рынок, капитал. Краткая история экономики - Лэй Эндрю
Впрочем, процветание в этот период было не всеобщим. В Китае после прихода к власти Коммунистической партии Мао Цзэдуна в 1949 году были казнены многие предприниматели. Сельское хозяйство подверглось коллективизации, что снизило стимулы для крестьян-фермеров, поскольку любой прибавочный продукт их труда подлежал распределению на все сообщество. В 1958 году Мао инициировал «Большой скачок» – безумный план, в рамках которого фермеров поощряли выплавлять железо и сталь в печах у себя на заднем дворе. Миллионы вполне приличных кастрюль и сковородок были переплавлены как металлолом.
В том же году Мао потребовал, чтобы люди массово уничтожали воробьев на том основании, что эти птицы поедают зерно. Людей призывали как можно больше шуметь, чтобы воробьи умирали от истощения. Миллионы воробьев погибли – но это значило, что больше некому было уничтожать саранчу, которая в следующем году пожрала почти весь урожай. В конце концов, чтобы восстановить экосистему, Мао импортировал 250 000 воробьев из Советского Союза. Потери урожая в период с 1957 по 1961 год привели к 40 %-ному падению производства риса и пшеницы и голоду, унесшему жизни десятков миллионов человек17.
Далее хаос только нарастал. Начавшаяся в 1966 году Культурная революция привела к усилению красногвардейцев Мао (хунвейбинов), нападавших на ученых и интеллектуалов. Университеты и школы закрывались, миллионы городских девушек и юношей (включая будущего президента Си Цзиньпина) отправляли на проживание в сельскую местность, где они часто не получали формального образования. Продолжающаяся политическая борьба привела к дезорганизации правительства, что сыграло свою роль в таких трагедиях, как прорыв плотины Баньцяо в 1975 году, в результате которого было затоплено по меньшей мере 5 миллионов домов и погибли десятки тысяч человек. Результаты политики Мао можно увидеть, сравнив экономику Китая с экономикой соседних стран. Во время правления Мао реальные доходы на душу населения росли в Гонконге в два раза быстрее, чем в материковом Китае, в Южной Корее – в четыре раза быстрее, а в Японии – в пять раз быстрее18.
На Кубе Фидель Кастро возглавил в 1959 году революцию, которая свергла правительство и установила коммунистическую диктатуру. Правительство взяло под свой контроль значительные отрасли экономики, раздробило крупные землевладения и раздало сельскохозяйственные земли крестьянам. Через десять лет после кубинской революции уровень жизни в стране остался неизменным [13]. Кастро и его коллеги-революционеры мало знали об экономике. Согласно одной (возможно, вымышленной) истории, как-то раз на ночной встрече руководства Кастро оглядел комнату и сказал, что президентом Национального банка Кубы должен стать хороший экономист. Заспанный Че Гевара поднял руку. Удивленный Кастро сказал: «Че, я не знал, что ты хороший экономист». Гевара тут же извинился: «О, я думал, тебе нужен хороший коммунист!»19
Некоторые другие страны Латинской Америки также начали отходить от участия в глобальных процессах. В Аргентине экономист Рауль Пребиш выступал за развитие индустриализации с целью импортозамещения, в рамках которой страны с низкими доходами стремились создать производственный сектор, сосредоточенный на продукции, пользующейся значительным внутренним спросом. Если теория сравнительного преимущества и обмена подразумевает, что страны должны специализировать свое производство, то импортозамещение предполагает, что странам будет выгоднее создание собственной диверсифицированной производственной базы. Многие страны-сторонницы импортозамещения также поддержали повышение пошлин, чтобы препятствовать импорту. Это оказалось особенно разрушительным, когда под пошлины попали товары, необходимые непосредственно для промышленного производства, такие как электродуговые сварочные аппараты, тракторы или офисное оборудование. Индустриализация, направленная на импортозамещение, не принесла ожидаемых экономических выгод, и в последние десятилетия ХХ века от нее практически отказались.
В течение десяти лет после Второй мировой войны ряд стран – в том числе Филиппины, Иордания, Сирия, Ливия, Камбоджа, Лаос и Вьетнам – провозгласили свою независимость. Крупнейшей среди них была Индия, которая решительно отвернулась от капитализма. Неуклюжая централизованная система планирования, безудержная коррупция и отсутствие торговых связей с остальным миром привели к появлению того, что некоторые специалисты называют «индуистскими темпами роста». Джавахарлал Неру, премьер-министр Индии в 1947–1964 годах, под впечатлением от увиденного во время визита в Советский Союз уверовал в необходимость жесткого государственного регулирования экономики. Неру положил начало серии пятилетних планов, созданных по образцу советской системы. Индийский «лицензионный радж» подразумевал, что фирма может начать свою деятельность, только удовлетворив требования ряда инстанций, число которых иногда доходило до 8020. При этом индийское правительство нередко само решало, что именно следует производить и по какой цене это будет продаваться. Такой подход ограничивал развитие инноваций и снижал рост производительности.
Тем не менее, в отличие от Китая, Индия после обретения независимости в 1947 году не переживала голода. Одну из теорий, объясняющих это, разработал индийский экономист Амартия Сен, который девятилетним ребенком стал свидетелем Бенгальского голода 1943 года и помогал раздавать рис жертвам катастрофы, в конечном итоге убившей около трех миллионов человек, когда страна находилась под британским правлением. Сен утверждал, что голод связан не только с производством продуктов питания – он также может случиться, когда правительство не направляет продовольствие туда, где оно необходимо. Поэтому крайне маловероятно, заключает Сен, чтобы от голода пострадали демократические страны со свободной прессой. Сен также уделяет много внимания так называемым человеческим способностям – умению людей действовать в собственных интересах. Человеческое процветание, утверждает он, связано не только со «свободой от» (чужого вмешательства), но и со «свободой чтобы» (например, получать образование или активно участвовать в демократических процессах).

Голодные граждане стоят в очереди в бесплатную столовую во время Бенгальского голода 1943 года
Работа Сена значительно повлияла на «Доклад о человеческом развитии» ООН, в котором страны оцениваются не только с точки зрения экономического роста, но и по более широкому набору показателей. Во многих случаях эти показатели идут рука об руку. В более демократических странах, как правило, отмечаются более высокие темпы экономического роста21. Страны, которые поощряют женщин к полноценному участию в жизни общества, обычно имеют более высокий уровень жизни22.
Потенциал рынка для повышения благосостояния и важность человеческих способностей для общего процветания человечества демонстрируют траектории развития Восточной и Западной Германии, Северной и Южной Кореи. После 40 лет коммунистического правления уровень жизни в Восточной Германии равнялся 1/3 от уровня Западной Германии23. После почти 80 лет коммунизма уровень жизни в Северной Корее составляет 1/23 уровня капиталистической Южной Кореи24. Оба эксперимента также показывают, что коммунизм не способствует развитию того, что Амартия Сен называет человеческими способностями. Коммунистическое, а не капиталистическое государство построило стену вдоль общей границы и угрожало расстрелом своим гражданам, если они пытались уйти.
Конец 1970-х годов ознаменовался поворотом многих стран к рыночным отношениям. Некоторых это заставило задуматься, не слишком ли далеко зашел капитализм. Для других появление рынков изменило ситуацию к лучшему – люди получили достаточно еды, и им больше не приходилось каждый вечер ложиться спать голодными.