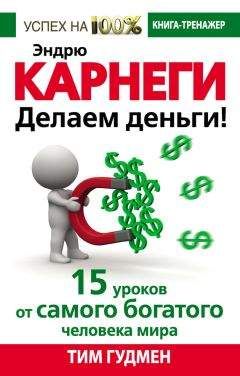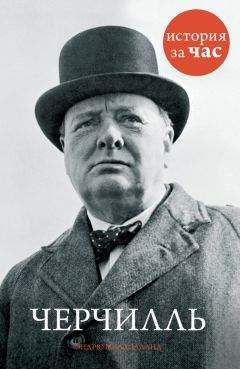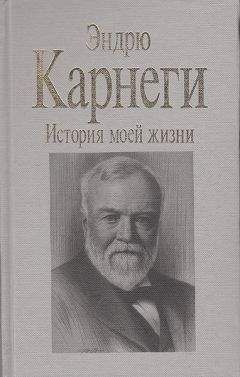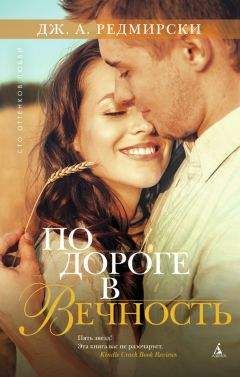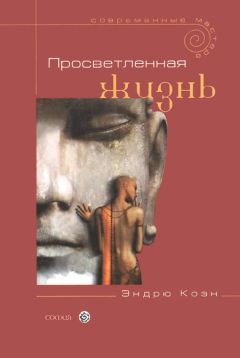Деньги, рынок, капитал. Краткая история экономики - Лэй Эндрю
Фридман был не единственным влиятельным экономистом Чикагской школы в 1980-х годах. В области антимонопольной конкурентной политики заметную роль играли Роберт Борк и Ричард Познер, выступавшие за более мягкий подход к корпоративным слияниям и выработавшие так называемый стандарт благосостояния потребителей. Большое может быть прекрасным, утверждали они, приводя в пример случаи, когда крупным фирмам удавалось производить свою продукцию намного эффективнее. В 1980-х это направление мысли завоевывало все более прочные позиции в США и во всем мире. По мнению Чикагской школы, важно не то, какой вред причиняет слияние или ценовая политика конкурентам, а то, наносит ли это ущерб потребителям. При Рейгане антимонопольные законы были свернуты, а банкам предоставлена свобода инвестировать в более широкий спектр активов.
В 1980-х годах многие другие развитые страны стремились сократить государственный сектор экономики, снижая ставки корпоративных и индивидуальных налогов. По миру прокатилась волна приватизаций: правительства Европы, Азии и Латинской Америки распродавали государственные предприятия, такие как операторы телефонной связи, порты, платные автодороги, компании, производящие электроэнергию, и железные дороги8. В то время многие экономисты полагали, что эти предприятия будут эффективнее работать в условиях частной собственности, вынужденные выживать в суровых условиях рынка и сталкиваясь с давлением конкурентов.
На практике, как сейчас представляется, достоинства приватизации, похоже, были излишне переоценены. Приватизированные активы во многих случаях представляли собой естественные монополии, чье доминирующее положение делало их невосприимчивыми к угрозам со стороны конкурентов. Любому, кто захочет конкурировать с приватизированной железнодорожной монополией, придется инвестировать миллионы долларов в новые пути и поезда – и подобная перспектива, скорее всего, отпугнет большинство новых участников. Продажа монопольной железной дороги может наполнить правительственный бюджет, но если в ближайшие десятилетия она приведет к росту цен на железнодорожные билеты, это будет невыгодная сделка.
Во время обучения в бизнес-школах будущие генеральные директора узнают о «пяти силах» Майкла Портера, определяющих способность фирмы получать сверхприбыли9. Менеджеры и инвесторы особенно высоко оценивают шансы таких отраслей, где нет конкуренции, существуют барьеры на входе для потенциальных новых участников рынка, поставщики не имеют рычагов давления на продавца, у потребителей мало альтернатив, и кроме того, не существует опасности появления аналогичных продуктов.

Но хотя эти пять сил хороши для прибыли, они плохи для потребителей. Антимонопольная политика обычно преследует прямо противоположные цели: в ее задачи входит усиление конкуренции, поощрение новых участников и сдерживание монополистов от злоупотребления своей властью в отношениях с поставщиками и клиентами. Недальновидная приватизация – как в приведенном выше примере с железными дорогами – позволяла продать объект по высокой начальной цене, но вместе с тем накладывала долгосрочное бремя на потребителей, которым в конечном итоге приходилось больше платить приватизированному коммунальному предприятию. Сегодняшние экономисты скептически смотрят на приватизацию, в результате которой закрепляются позиции монопольных поставщиков товаров и услуг.
Аристотель называл красоту «лучшим из верительных писем» [14]. Экономика красоты изучает взаимосвязь между привлекательностью и доходом. Это вполне возможно – хотя красота, как известно, в глазах смотрящего, люди все же смотрят на красоту одинаково. Выяснилось, что, если вы попросите нескольких экспертов оценить привлекательность объекта, они дадут сопоставимые ответы.
Экономист Дэн Хамермеш, анализируя данные нескольких опросов, включающих в себя оценку привлекательности и сведения об уровне доходов, подсчитал, что работники с самой приятной внешностью зарабатывают примерно на 10 % больше, чем те, кого природа одарила не так щедро10. В развитых странах эта разница может достигать сотен тысяч долларов за всю карьеру. В целом взаимосвязь между привлекательностью и уровнем заработка у мужчин выражена сильнее, чем у женщин. Эффект красоты сохраняется даже в профессиях, не предполагающих активного взаимодействия с клиентами, из чего можно заключить, что работодатели, возможно, дискриминируют менее привлекательных людей. Это явление получило название «лукизм», однако дискриминация людей по признаку внешности запрещена в крайне немногих областях.
Красивые люди получают и другие преимущества. Привлекательные соискатели имеют больше шансов на одобрение кредита. Привлекательные политические кандидаты имеют больше шансов быть избранными. Привлекательные преступники, обвиняемые по уголовным делам, имеют больше шансов быть оправданными. Привлекательные студенты получают более высокие оценки за свои презентации в классе. Привлекательные профессора – даже профессора экономики – получают более высокие оценки как преподаватели. Даже младенцы дольше рассматривают красивые лица.
Впрочем, если вы не великолепны, не волнуйтесь. Тем, кто не обладает конвенционально приятной внешностью, следует помнить о теории сравнительных преимуществ и сосредоточиться на других своих сильных сторонах – таких как ум, сила мускулов и личные качества.

Красивые лица младенцы рассматривают дольше
Таргетирование инфляции и неравенство
В 1980-х годах ответственные за экономическую политику добились устойчивого прогресса в снижении инфляции. Выше мы уже говорили о самой коварной форме инфляции – гиперинфляции. Так же, как Германия после Первой мировой войны, период жестокой гиперинфляции пережила Венгрия после Второй мировой войны. В какой-то момент годовая инфляция в Венгрии достигла 419 000 000 000 000 000 %, и правительство выпустило банкноту в 100 квинтиллионов (единица и 20 нулей)1. В 1989 году на фоне ежемесячно повышающихся вдвое цен правительство Аргентины объявило, что в стране полностью истощились запасы банкнотной бумаги. При Роберте Мугабе гиперинфляция в Зимбабве дошла до того, что цены удваивались каждый день. В какой-то момент банкоматы одного крупного зимбабвийского банка при попытке снять наличные начали выдавать ошибку «выход данных за пределы счетчика», поскольку не могли обработать огромное количество нулей2.
Угроза гиперинфляции стала причиной возвращения золотого стандарта, связывавшего стоимость валюты с драгоценным металлом. Но на практике это оказалось не лучшим решением. Не было никаких оснований ожидать, что темпы мировой добычи золота будут соответствовать темпам экономического роста стран, использовавших золотой стандарт. Если рудокопы находят огромные залежи золота, действительно ли мы хотим, чтобы оно снизило ценность денег? Конец золотого стандарта в начале 1970-х означал, что страны могут увеличивать денежную массу сообразно росту населения и уровня жизни. Крупнейшие экономики также начали рассоединять свои валюты, отказываясь от фиксированных обменных курсов в пользу плавающих курсов, обусловленных спросом и предложением на их валюту.
Но в эпоху, когда центральные банки находились под контролем политиков, для управления инфляцией требовалось учитывать не только экономические факторы. Правительства нередко поддавались соблазну и провоцировали предвыборный бум, за которым после выборов неизменно следовал спад. Возможно, это помогало политикам сохранять свои позиции, но в результате кризиса, как правило, наступавшего вслед за выборами, простые трудящиеся нередко теряли рабочие места. Проблема приобрела такую остроту, что, глядя на экономические графики, вы без труда можете определить на них годы выборов. В послевоенные десятилетия темпы экономического роста в США в год после выборов обычно были ниже, чем непосредственно в год выборов. Аналогичная картина наблюдалась и в Европе.