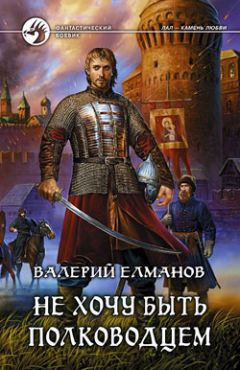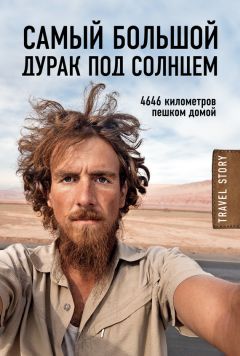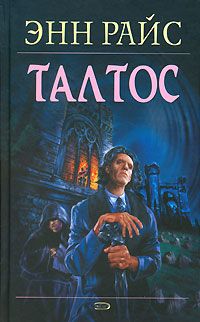Энн Райс - Талтос
Но иногда такое случалось. Я уверен в этом. Какие-нибудь мужчина и женщина так любили друг друга, что их было не разделить. Но сам я такого не помню. Ничто не мешало добиваться любой женщины или любого мужчины, а любовь и дружба не окрашивались в особые романтические тона — они были чистыми.
Есть еще очень многое в той жизни, что я мог бы подробно описать: различные песни, что мы пели, природу наших споров, потому что они были организованными, нечто вроде логических диспутов, и вам, наверное, это могло бы показаться даже смешным. Я мог бы долго говорить обо всех ужасных ошибках и промахах, которые неизбежно совершали юные Талтосы. На нашем острове жили маленькие млекопитающие, очень похожие на обезьян, но мы никогда и не помышляли о том, чтобы охотиться на них, готовить их и есть. Сама идея кому угодно показалась бы вульгарной и совершенно невыносимой.
Еще я мог бы описывать все типы жилищ, что мы строили, потому что их было много, и скудную одежду, что мы носили: мы не любили одеваться и не нуждались в этом, нам не нравилось, когда нечто грязное касалось нашей кожи. Я мог бы рассказать, какими плохими были наши лодки, и тысячи других вещей.
Случалось иногда, что кто-то из нас прокрадывался туда, где жили женщины, просто для того, чтобы увидеть их в объятиях друг друга, занимающихся любовью. А потом женщины нас замечали и прогоняли. Среди утесов, в гротах, в пещерах рядом с булькающими источниками были особые места, где постоянно занимались любовью — и мужчины с мужчинами, и женщины с женщинами.
В том раю никогда не знали скуки. Слишком много было всяких занятий. Кто-то мог часами возиться на берегу, даже плавать, если осмеливался. Кто-то мог собирать яйца или фрукты, танцевать или петь. Самыми искусными, наверное, были художники и музыканты, а еще строители лодок и домов.
Для развития ума возможностей хватало. Меня считали очень умным. Я замечал вокруг такие закономерности, которых не замечали другие, например, что определенный вид устриц в теплых бассейнах растет быстрее, если на воду светит солнце, или что некоторые грибы лучше растут в темные дни… Мне нравилось придумывать разные новшества вроде подъемника из вьющихся растений и корзинок, сплетенных из веток, с помощью которых фрукты можно было спускать с самой вершины дерева.
Но точно так же, как все восхищались мной из-за этого, они и смеялись над этим. Видимо, предполагалось, что совершенно незачем делать такие вещи.
О тяжелой, нудной работе никто и не слыхал. Каждый день предлагал мириады возможностей. Удовольствие считалось высшей добродетелью.
А боль была злом.
Именно поэтому деторождение вызывало такое почтение и такую предусмотрительность в каждом из нас: оно ведь подразумевало боль для женщины. Нужно понимать, что женщина-Талтос не была рабой мужчины. Она часто бывала такой же сильной, как мужчина, имела такое же длинное тело, такие же длинные руки и ноги. Но биохимия ее организма была совершенно другой.
Так что рождение, включавшее в себя и наслаждение, и боль, было самым великим таинством в нашей жизни. На самом деле единственным значимым таинством в нашей жизни.
Теперь вы знаете то, чем я хотел с вами поделиться. Наш мир был миром гармонии и истинного счастья, это был мир одного великого таинства и множества маленьких удивительных вещей.
Это был рай, и не рождался еще такой Талтос — независимо от того, какое количество человеческой крови испортило его наследственность, — который не помнил бы об утраченной земле, о временах гармонии.
И Лэшер наверняка помнил. И Эмалет наверняка помнила.
История рая у нас в крови. Мы видим его, мы слышим пение его птиц, мы ощущаем тепло вулканических источников. Мы чувствуем вкус фруктов; мы слышим песни; мы можем подпевать им. И еще мы знаем то, во что люди могут только верить: рай к нам вернется.
Прежде чем мы перейдем к катастрофе и к зимним землям, позвольте добавить еще кое-что.
Я верю, что среди нас были и дурные личности, те, кто творил насилие. Думаю, были такие. И думаю, что были те, кто, может быть, убивал, и те, кто был убит. Я уверен, что так должно быть. Должно быть. Но никто не хотел об этом говорить! Такое просто выбрасывали из наших историй! Поэтому мы ничего не слышали о кровавых инцидентах, насилии, о борьбе между какими-либо группами. Ужас перед насилием перевешивал все.
Как возникло правосудие, я не знаю. У нас не было вождей в строгом смысле этого слова — было собрание мудрецов, выделявшихся среди прочих и образовывавших, так сказать, свободную верхушку общества. К ним мы могли обращаться.
Другая причина моей уверенности в том, что случаи насилия могли происходить, — имевшаяся у нас четкая концепция Доброго бога и Злого бога. Конечно, Добрым богом был (или была) тот, кто даровал нам нашу землю, средства к существованию и наши удовольствия; а Злой бог сотворил ужасную землю лютого холода. Злой бог наслаждался несчастными случаями, в которых погибали Талтосы, и время от времени, хотя и крайне редко, вселялся в какого-нибудь Талтоса.
Если и существовали какие-нибудь мифы и сказания, относившиеся к этой туманной религии, я никогда не слышал, чтобы кто-то их рассказывал. Наше почитание Доброго бога никогда не требовало кровавых жертвоприношений для его умиротворения. Мы славили Доброго бога в песнях, стихах и всегда в хороводах. Когда мы танцевали, когда мы делали ребенка, мы приближались к Доброму богу.
Многие из тех старых песен постоянно мне вспоминаются. Время от времени я один выхожу на улицу ранним утром, шагаю в толпе по улицам Нью-Йорка и пою все песни, что могу припомнить. И тогда ощущение потерянной земли возвращается ко мне, я слышу барабаны и флейты, вижу мужчин и женщин, танцующих в хороводе. В Нью-Йорке, где никто не обращает на вас внимания, такое возможно. Меня это здорово смешит.
Иногда другие прохожие, что напевают себе под нос, вслух разговаривают или просто что-то бормочут, подходят поближе ко мне, что-то говорят или что-то поют мне, а потом уходят. Другими словами, я свой среди сумасшедших Нью-Йорка. И хотя все мы одиноки, на несколько мгновений мы сближаемся. Сумеречный мир большого города.
А потом я снова возвращаюсь к своей машине и раздаю куртки и шерстяные шарфы тем, у кого их нет. Иногда я посылаю раздавать их Реммика, моего слугу. Иногда мы пускаем бездомных переночевать в фойе, кормим их. Но если они начинают ссориться между собой, а то и махать ножами, им тут же приходится снова уйти в снегопад.
Мне припомнилась еще одна опасность жизни в утраченной земле. Как я мог забыть? Там всегда были такие Талтосы, которые попадали в ловушку музыки и не в силах были выбраться из нее. Их могла поймать музыка других Талтосов, так что тем приходилось ее прекращать, чтобы освободить несчастных. Но они могли пойматься и на собственное пение и пели, пели, пока не падали замертво. Могли и танцевать, пока не умрут.
Я и сам не раз подпадал под чары голоса или танцевальной музыки, ритма, но всегда от них освобождался — или сама музыка заканчивалась, или я, возможно, слишком уставал, или терял ритм. Как бы то ни было, смерть от музыки никогда мне не грозила. И таких, как я, было много. Но всегда присутствовала и смерть по такой причине.
У всех оставалось ощущение, что Талтос, который умер от танца или пения, отправился к Доброму богу.
И все же никто об этом не говорил. Смерть просто не была подходящей темой для Талтосов. Все неприятное забывалось. Это был один из наших основных идеалов.
К моменту катастрофы я успел прожить уже очень долго. Но я не знаю, как подсчитать те годы. Пусть это будет лет двадцать или тридцать.
Катастрофа носила чисто природный характер. Позже люди стали говорить, что это римляне или пикты прогнали нас с нашего острова. Но ничего подобного не было. В утерянной земле мы ни разу не видели человеческого существа. Мы не знали других народов. Мы знали только самих себя.
Мощный сдвиг земли заставил наш остров содрогнуться и начать распадаться на части. Все началось с легкого дрожания почвы и облаков дыма, затянувших небо. Гейзеры начали ошпаривать нас. Озера и пруды стали слишком горячими, чтобы пить из них. Земля качалась и стонала и днем и ночью.
Многие Талтосы умирали. Рыба в озерах была мертва, птицы покинули утесы. Мужчины и женщины уходили в разные стороны в поисках спокойного местечка, но ничего не находили, и некоторые прибегали обратно.
Наконец, после множества смертей, весь наш народ принялся строить плоты, лодки, долбленки — кто что мог, чтобы отправиться в путешествие к земле лютого холода. У нас не оставалось выбора. Нашу землю трясло все сильнее, с каждым днем ситуация становилась все более угрожающей.
Не знаю, сколько Талтосов остались там. Не знаю, сколько покинули остров. Дни и ночи напролет все строили суденышки и отправлялись в море. Мудрые помогали тем, кто был поглупее, — так мы на самом деле отличали молодых от старых, — и примерно на десятый день, как я могу подсчитать теперь, я тоже отправился в путь — с двумя моими дочерями, двумя мужчинами, которых я любил, и одной женщиной.