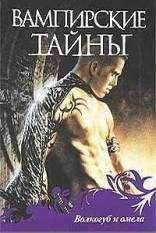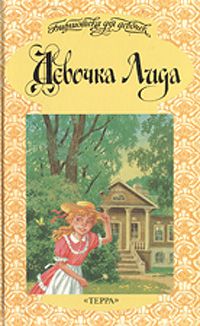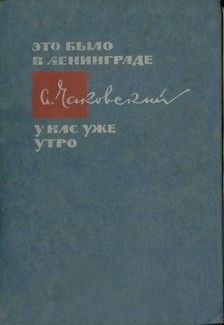Наш двор (сборник) - Бобылёва Дарья
Безуспешно пытаясь проснуться, Лев Вениаминович разразился полным ужаса сипением, но его заглушила громоподобная отрыжка, вырвавшаяся из горла черного людоеда. Тот запрокинул голову, и из его растянутой пасти хлынул фонтан костей — потемневших, как будто обожженных. Кости дождем посыпались на поле, люди замахали мотыгами, измельчая их и вбивая в землю, тщательно перемешивая с ней. И прямо на глазах земля утучнялась, жирнела, из-под мотыг, как в ускоренной съемке, полезли первые зеленые иглы ростков.
— Родит земля, — глухо приговаривали люди. — Наелась, кормилица…
Черный поднял голову и вдруг посмотрел на Льва Вениаминовича в упор, не мигая. И парализованный философ отчетливо разглядел, какие у него дикие водянистые глаза — не человеческие и даже не звериные, а как у птицы, круглые и без единой понятной мысли. И что одежда его черная — это не ряса, а что-то человечьими руками не тканое, то ли волосы, то ли перья. Человек вскинул руки над головой и резко опустил их, точно крылья, вытянул вперед узкое лицо с длинным носом-клювом… И поскакал по пашне к Льву Вениаминовичу, быстро перебирая длинными голенастыми ногами.
Лев Вениаминович заорал, и вновь вокруг выросли стены родной комнаты, закрывая его от страшного поля, которое удобряли костями. Но он по-прежнему не мог пошевелиться. Лопуны и трясенец, драчены и талалуй, суточные щи и петровская каша свинцом лежали внутри, Лев Вениаминович чувствовал, что он нафарширован всем съеденным от макушки до пяток, как молочный поросенок. Все, что он мог — это таращить глаза.
По комнате сновали две деловитые тени. Одна, повыше, снимала с полок книги и уносила куда-то. Лев Вениаминович, силясь приподнять голову, чуть не заплакал. Всю жизнь он прожил с этими книгами, знал, у какой отходит корешок, у какой надорван титульный лист, а где самые досадные опечатки исправлены карандашом. Самые любимые хранили на страницах сияюще-желтые пятна от апельсинов, которые поедал над ними увлекшийся чтением философ. А теперь пришлые захватчики грубо их уносили — и, судя по грохоту в коридоре, бесцеремонно сваливали там прямо на пол.
Вторая фигура расстилала на полу что-то тонкое и шуршащее. Приминала ногами, ныряла под диван, чтобы постелить и там. Краем глаза Лев Вениаминович заметил сухую бурую лапку, цепляющую краешек шуршащей ткани за плинтус, и опознал Агафью Трифоновну.
Дунища зашла за очередной порцией книг, оглядела комнату:
— Веревкой сповьём? Лязнет еще. Баба в том годе Матвею ум туфлёй отшибла.
— Так снимать туфли-то надо. Он тихенький, — мягко ответила Агафья Трифоновна. — Гля, горло налитое, проведешь — и не заметит.
— Струмент нести?
— Пойдем, знаю, чем сподручней будет.
Обе вышли, а Лев Вениаминович заметался внутри собственного грузного тела. С трудом поднял одну руку, коснулся невольно своего налитого горла и начал изо всех сил отталкиваться локтем от стены, помогая себе затекшими ногами. Диван был узкий, не рассчитанный на огромную тушу, в которую успел превратиться одинокий философ. Агафья Трифоновна и Дунища шумели и звенели на кухне, подыскивая «струмент». Лев Вениаминович, пыхтя, наконец съехал с дивана на тонкое и шуршащее — оказалось, что это полиэтиленовая пленка. Агафья Трифоновна недавно купила целый рулон — сказала, на парник под огурцы.
Лев Вениаминович оглядел комнату, казавшуюся с пола огромной и неуютной, и заметил на письменном столе сувенирного орла из города Минеральные Воды. Большую деревянную птицу с раскинутыми крыльями привезли с юга еще родители философа. В те давние черно-белые времена каждый, видевший увитые тяжелой южной листвой горы и пивший соленую минералку в специальных павильонах, привозил с собой такого орла. Годами орел собирал пыль, падал и оббивал свои гордые крылья, но Лев Вениаминович не мог его выбросить — ведь это было единственное материальное доказательство того, что на свете существуют горы и целебная невкусная вода, а мама с папой жили и даже были молодыми.
Он подполз к краю стола, качнул орла пальцами — и верная птица спикировала к нему. Лев Вениаминович ухватился за край подоконника и стал подниматься на ноги.
Ему удалось встать на колени. Цепляясь за нижнюю оконную ручку, он размахнулся и несколько раз ударил деревянным орлом по стеклу. Осколки жадно впились в руку, прохладный ночной воздух ворвался в комнату, зашумели, став вдруг близкими и родными, немногочисленные в этот час автомобили на Садовом кольце. Кто-то шел по двору, беспечно постукивая каблуками, остановился, послышалось отчетливое женское «ой».
— Помогите! Убивают! Пожар! — завопил Лев Вениаминович…
И услышал вместо крика свистящий шепот, означавший, что он снова в сонном параличе. Ну конечно, деревянный орел, обреченно подумал Лев Вениаминович, я же выкинул этого орла лет пять назад.
Он с усилием приоткрыл глаза и обнаружил, что все еще лежит на диване. Целое и закрытое окно было недостижимо далеко, за ним серел рассвет, а над диваном стояла Дунища с топориком для костей в расплющенных многолетним трудом руках. Лицо ее, похожее на картофелину, было непроницаемо.
— Это ничего, ничего, — услышал одинокий философ уютный шепот Агафьи Трифоновны и зажмурился, потому что на его веки посыпалась черная соль земли.
На седьмом этаже вдруг проснулась Авигея, отодвинула атласную подушку, потерла виски костлявыми пальцами. В квартире было тихо, легко дышали во сне дочери, внучки и незамужние сестры, но в голове гадалки, угасая, еще перекатывался чей-то истошный крик.
Она запахнула халат, на цыпочках подошла к столу и машинально, еще толком не проснувшись, раскинула карты. Вышли бубновый король на виселице и черт в ступе. Раскинула снова — вышла черная птица, клюющая глаза королю, а если заветную карту добавить — то ведьмина смерть. Потом опять черная птица и виселица. А потом три раза подряд ведьмина смерть. Хотела перемешать карты получше — ссыпались со стола. Не желали идти в руки, прятались, да еще и пугали. Ей за всю жизнь ведьмина смерть три раза подряд всего однажды выпадала, и тогда она сразу, в чем была, из города уехала. На следующий день тогдашнего ее поклонника арестовали, пикнуть не успел. Но тогда и времена другие были, хищные…
Авигея достала забившегося под угол ковра бубнового короля — толстого, с грустными глазами. И, сняв с безымянного пальца кольцо со змеей, положила на карту.
Кольцо потемнело моментально, будто подернулось черной изморозью.
Всю оставшуюся ночь Авигея ворочалась, а утром явилась проведать Льва Вениаминовича. Открыла Дунища, а из глубины квартиры вместе с привычной волной сдобного тепла донесся голос Агафьи Трифоновны, как будто она давно дорогую гостью ждала:
— Заходите, заходите!
Авигея уселась за стол, поблагодарила, получив чашку чая на блюдечке, замотала головой, заметив, как Агафья Трифоновна снимает полотенце с пышного пирога, но и его на блюдечке тоже получила.
— А хозяин где?
— Ох, — Агафья Трифоновна сразу обмякла, села напротив и подперла щеки кулачками. — Ох, беда. Это чего мы пережили. Ночью-то слышали?
Гадалка решила, что слышала она не совсем то, о чем говорит Агафья Трифоновна, и вопросительно приподняла выщипанные дугами брови.
— Такие криксы на него напали, как на младенчика. Плакал, метался, тошнился. Доктор сказал — от переедания. А как за ним уследишь? Все просит: Агафья Трифоновна, пирожок. Агафья Трифоновна, трясенца, кашки. Агафья Трифоновна…
— Так и где он, у себя? Проведать хотела по-соседски.
От чая внутри разлилось приятное тепло. Лицо Агафьи Трифоновны выражало искреннее беспокойство, губы были поджаты горестной гузкой, на лучистые глаза набегали слезы.
— В гошпиталь забрали. Вроде как родимчик с ним приключился. Вот, ждем, — Агафья Трифоновна кивнула на зеленый телефон. — Да вы ешьте, ешьте. Вместе и подождем, всё лучше…
Гадалка поднесла к губам пирог и встретилась взглядом с Дунищей. Маленькие глазки глядели цепко и тяжело, а пальцем Дунища пробовала на остроту лезвие маленького топорика для костей.