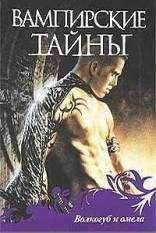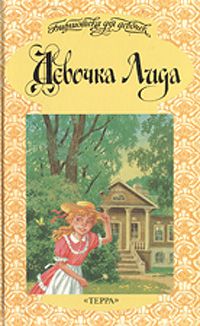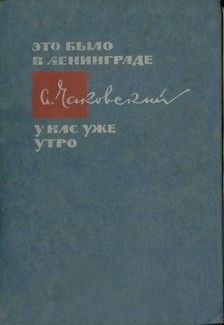Наш двор (сборник) - Бобылёва Дарья
Выяснилось, что «ходит» у Палны по ночам над головой, а живет она на последнем этаже. Досифея велела Пистимее с Алфеей принести чаю, угостила Палну конфеткой «трюфель» и осторожно предположила, что по чердаку у нее над головой может ходить вполне себе нормальный живой человек — может, бездомный, вроде Опарыша, бомжей сейчас, говорят, все больше и больше становится, а может, жэковским рабочим там что-то понадобилось. Но Пална, оказывается, и в ЖЭК уже ходила, и поднималась проверять замок на чердачной двери — висит себе нетронутый, весь в пыли, как обычно.
Досифея раскинула карты — расклад вышел «пустой», ничего определенного не говорящий.
— Ты глянь, миленькая, — снова заныла Пална. — Ты глянь, кто там, чего ему надо? Я денег дам, у меня на сберкнижке…
Из кухни послышался грохот — Пистимея с Алфеей, пытаясь упихнуть утку в маленький холодильник «ЗиЛ», уронили какую-то банку.
Вечером уже Досифея явилась к Палне — с ключом от чердачного замка, карманным фонариком и с бутылкой кефира. Той самой, которую многие люди почему-то одну с тех времен и запомнили — стеклянная бутылка с широким горлышком и зеленой крышкой из фольги, а на фольге буквы выдавлены. Пална подивилась, что Досифее так просто выдали в ЖЭКе ключ, а потом подумала, что, может, и не в ЖЭКе, а может, и не выдали. Везде в нашем дворе у семейства гадалок были свои люди, те, кому они как-то в чем-то помогли, — ничего не называлось напрямую, и вообще все это либо объяснялось простым совпадением, либо было суеверием и шарлатанством. Вот и Пална тогда, глядя на непроницаемое кукольное личико Досифеи, вдруг заволновалась: обжулит ведь, запросто обжулит, да еще и денег сдерет, зачем только про сберкнижку сказала…
Досифея попросила блюдечко — желательно, чтоб каемка была золотая, «несъеденная», — и велела Палне сидеть в квартире, а сама отправилась на чердак. И сразу заскрипели, запели иссушенные временем деревянные перекрытия у Палны над головой, как будто не одна гадалка там бродила, а целый полк. А жирная потому что, тоже — колдунья, а с телесами своими сладить не может, все пухнет, подумала Пална и неожиданно успокоилась.
Луч фонарика, полный пылевой взвеси, выхватывал голые кирпичные стены и деревянные балки. На чердаке гнездились голуби, и пару раз Досифею пугало суматошное хлопанье их крыльев. Наконец она нашла подходящий относительно чистый уголок, поставила на покрытый толстым слоем мягкой пыли пол блюдечко и налила в него кефира.
— Стрешник-стрешник, черт подстрешный… — Досифея задумчиво облизала фольговую крышечку. — Выходи, потолкуем.
Прислушалась — тихо. Призывно постучала по блюдечку ногтем, поставила рядом бутылку — пусть запах почувствует. Молоко-то не все любили, а от кефира, по ее опыту, еще никто не отказывался.
— Стрешник-стрешник… — Досифея поцокала языком.
И тут скрипнули доски где-то сбоку. Досифея посветила фонариком — мелькнуло что-то серовато-бледное, тонкое. А потом в кружок света сама собой влезла голова, раздутая, словно от водянки. На Досифею взглянули, не моргая, два огромных глаза, в которых ни белков не было, ни зрачков, одна какая-то темная слизь под тонкой пленочкой…
Досифея так и застыла — она сроду ничего подобного не видела и знать не знала, кто это и как с ним надо. От страха будто льдом обложило трепещущее сердце, Досифея непроизвольно схватилась за ворот кофточки, дернула — дышать стало нечем. Никогда такого не было, чтобы она не знала, как надо и что делать, все они знали, с самого рождения знали, и были уверены, что ради этого и дозволяется им жить на земле…
Голова втянулась обратно во тьму, и стало тихо. Досифея, цепляясь за кирпичную стену, как слепая, побрела к двери.
Пална кружила по лестничной клетке, пока Досифея закрывала замок, все пыталась выспросить, что и как. Досифея молчала, потом спустилась, вызвала лифт и повернулась к Палне:
— Утку мы вам отдадим…
Пална охнула и старинным бабьим жестом прижала руку ко рту.
— Яблоки они, может, и съели уже, а утку отдадим…
Выйдя из подъезда, Досифея присела на лавочку, чтобы перевести дух. Позволила наконец телу бессильно обмякнуть, а глазам — наполниться слезами. Мир, о тайном устройстве которого так много знала Досифея, как будто дал очередную трещину. Первая наметилась, когда они девчонку с царским подарком проглядели и матушку Авигею потеряли, а потом пошло-поехало — Пелагея черта ряженого выпустила и сама сгинула, сестра родная, Матейка, их предала… И теперь снова, и эта трещина — самая крупная. Как же можно видеть что-то и понятия не иметь, что это? Досифея вспомнила, как глядели на нее, не моргая, две лужицы темной слизи, и чуть не разревелась. Наклонилась, ища в сумке носовой платок, — и увидела на асфальте возле лавочки трупик крысы. Аккуратно вскрытый, выпотрошенный и частично освежеванный, без хвоста и глаз. Стараясь не дышать, Досифея перевернула его носком туфли — так и есть, крови под ним ни капельки. Подумала, что надо бы снова подняться на чердак, поискать точно так же препарированных голубей, но поняла, что не сможет. «Матушка Авигея пошла бы!» — сердито сказала пропавшая Матейка у нее в голове.
— Пошла бы, — печальным эхом откликнулась Досифея и побрела к угловому дому.
И уже на следующий день пополз по двору слух, что в нашем районе появились какие-то резуны. Произносилось это слово со значением, а насчет того, кто под ним подразумевается, версии были разные. Одни говорили, что это банда отбившихся от рук подростков, другие — что иностранные ученые, приехавшие опыты ставить, третьи — что лучше их лишний раз не поминать. Дети были уверены, что резуны — это огромные, мутировавшие от радиоактивных дождей и ядовитого городского смога летучие мыши, которые обитают на чердаках.
— Чупакабра, — сказал как-то Рем Наумович, пожилой инженер из коммунального барака, и на него посмотрели с недоумением. Рем Наумович объяснил, что о похожих происшествиях иногда рассказывают в передачах про непознанное, к которым жильцы барака тайно пристрастились с тех пор, как сами попали в одну из них. Творятся такие вещи преимущественно за рубежом. Домашних животных и даже крупный рогатый скот находят изувеченными и, что самое главное, обескровленными. В Латинской Америке люди верят, что эти бесчинства творит чудище под названием чупакабра. Может, теперь и у нас что-то подобное завелось, заключил Рем Наумович.
— Последние времена настали, — вздохнула сидевшая на соседней лавочке Пална. — А у меня хоть не ходит больше. К другим, значит, пошло.
Сходились все только в одном — надо беречь от таинственных резунов домашних животных, за детьми приглядывать да и вообще вести себя осмотрительно, на чердаки и в подвалы не ходить и допоздна на улице не задерживаться. Известно ведь — тот, кто зверей начал калечить и убивать, рано или поздно на людей переходит.
Но вскоре этому слуху, подробному и увлекательному, пришлось потесниться — вдруг заговорили о том, что в немецкой школе эпидемия менингита. Матери и бабушки нашего двора, разумеется, всполошились, начали выяснять и быстро установили, что нет, не эпидемия, а всего один случай, у учительницы. Потом выяснилось, что не у учительницы, а у ученицы третьего класса. И вроде бы не менингит, это был предварительный диагноз, и он не подтвердился. На этом все успокоились, и только коммунальные старушки Надежда и Раиса, очень скучавшие без неведомо куда пропавшей Веры и в попытках развеяться отточившие до совершенства навыки поиска увлекательных подробностей, продолжили собирать сведения. Они с ног сбились, расспрашивая обитателей не только нашего двора, но и соседних, умаялись, Раиса даже похудела. Но полученные подробности того стоили — они оказались образцово таинственными.
Оказывается, менингит подозревали у девочки Насти, которая жила не у нас, а по соседству, в пятнадцатиэтажке, но часто приходила играть в наш двор. И вот как-то вечером эта Настя, совершенно здоровая, легла после ужина спать — а утром не смогла проснуться. И потом не смогла проснуться, сколько ее ни будили. Врачи сначала подозревали менингит, но он не подтвердился, Настя спит до сих пор и по результатам всех обследований абсолютно здорова.