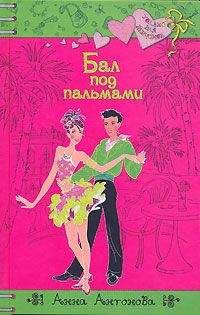Анна Старобинец - Резкое похолодание
— Ты мой должник, и долг твой велик.
— Так и есть, — покорно согласился я. — Аминь.
— Долг платежом красен.
— Ты прав.
— А отсрочки не проси: все по сроку на Руси.
— Аминь.
— Скушал булочку, дружок, возвращай теперь должок.
Мне захотелось его ударить. Засветить прямо в этот мерзкий малиновый рот, в черную трещину — чтобы вся его отвратительная харя развалилась на две половинки, как гнилой арбуз. Но это было невозможно. Никак нельзя. Он был мне подобным. Кроме того, он имел надо мной власть: ведь я ему задолжал. Поэтому я был сама кротость:
— Хорошо, я думаю, что мог бы…
— Ну-ка, братец, не финти, да по счету заплати.
Мне пришло в голову, что он, возможно, глухой.
Набрав в грудь побольше воздуха, я изо всех сил заорал:
— Нет пробле-е-е-м! Чего ты хочешь?
— Не дозволено кричать, нужно брата привечать.
Нет, глухим он не был. Он был сумасшедшим…
— Без толку орать, коль платить пора… Горло драть негоже нам — долг платить положено.
Он проникновенно посмотрел мне в глаза своими бессмысленными голубыми зенками, а потом громко заржал.
— Люблю фольклор, — сказал он, отсмеявшись. — Ладно. Пошутили — и будет. Пойдем теперь к тебе домой. Посмотрим, что у тебя там есть хорошенького — я чего-нибудь себе подберу.
— Но…
— Я сказал: пойдем. Это приказ. Вот и весь сказ…
«Чтоб ты сдох, пидарас», — хотел я сказать в рифму, но сдержался.
Он шуровал, как у себя дома.
— …А это чё за хрень?
— Быстрорастворимая лапша.
— Давай три пачки… О, классная сахарница! Беру.
Сахарница была из старинного фарфорового сервиза. С росписью. На ней мирно беседовали дамы под зонтиками; лошадиные упряжки поджидали их среди роз… Были еще чашки и заварной чайник — с таким же буколическим узором.
— …И чашечки тоже. И чайник заварочный. Хотя нет, чайник не надо — у него носик отколотый…
Я был перед ним не просто в долгу. Я был в неоплатном долгу. Я совершил кражу в его доме. Теперь он имел право взять у меня все что угодно. В любом количестве.
— …И вот эти часы, эту чайную ложечку, вон ту позолоченную ручку от дверцы — давай, давай, отвинчивай, так, еще книжек каких-нибудь дай почитать… Ой какой красивый шарфик! Чей?
— Вон ее, — я ткнул пальцем в Шаньшань, которая раскладывала в стопочки свои брошюры с магическими символами.
— …Зачем ей такой красивый фиолетовый шарфик, уродине? Беру. Подарю кому-нибудь… Та-ак! Сколько тюбиков!.. — Мы как раз переместились в ванную. — А чего это тут на них написано? Что это за закорючки? На каком языке?
— Мне этот язык не известен, — с достоинством сообщил я. — Это все тоже ее.
— Ну и ладно. Классные тюбики. Давай вот этот, этот и вон тот еще. О, и шампунь! И ватные палочки… Так, теперь полезли на антресоли. Там всегда все самое интересненькое.
Из антресольных ценностей его заинтересовали: коллекция игрушечных автомобильчиков, кипятильник, набор пластмассового конструктора, игра «Менеджер», два номера журнала «Юный натуралист» и один — «Иностранной литературы», валенки с калошами, лоскуты крепдешина, розовый школьный пенал с черепашками, колесики от кресла, коллекция монет, неисправный фотоаппарат «Зенит», три маленькие колбы для химических опытов, борода Деда Мороза и красный колпак — его же, новогодняя мишура фиолетовая, желтая, золотистая, новогодний дождик серебряный, три петарды, гирлянда елочных фонариков, шесть елочных игрушек в форме шишечек, одна в форме золотого шара и:
— Ой!
То, чего я так боялся. Звезда — большая, красная звезда, которая надевается на верхушку елки, которая так блестит, — она, конечно же, должна была понравиться ему, с его сорочьими вкусами. И — да, она ему понравилась («Ух ты-ы-ы!!!»), он схватил ее и принялся вертеть в руках. И — да, он, естественно, захотел ее взять, но это было еще полбеды, потому что она вообще-то развинчивалась, эта звезда, уж мне ли было не знать, что она развинчивалась, — так что я вполне мог бы незаметно ее развинтить, пока он бегал по моему дому в поисках «интересненького», а я следовал за ним со всем выбранным им барахлом, — я мог бы ее развинтить, забрать из нее то, что необходимо было забрать, а потом свинтить ее снова, и он бы забрал ее, и он бы даже никогда не узнал, что в ней что-то когда-то хранилось, и в этом даже не было бы ничего плохого, потому что ему ведь все-таки понравилась сама звезда, а не ее содержимое, но — беда была в том, что он схватил ее и принялся вертеть в руках. И уронил. И она не развинтилась, а просто разбилась.
— Интересно. — он озадаченно поворошил осколки. — Почему это… Почему у нее внутри вата? И елочные иголки…
— Просто так, — я старался говорить как можно более равнодушно, но пот тек по мне градом, и вся шерсть на лице была мокрой от пота. — Наверное… Я думаю, вату тогда клали во все… Нет!!!
Он развернул вату и вытащил колбу — такую же, как те три, что он уже облюбовал, но с единственным отличием: те были пустые. А эта, четвертая, нет.
— Что это?! — он держал ее двумя пальцами.
— Осторожно, уронишь!
— Я. Спрашиваю. Что. Это?
— Просто… просто колбочка.
— Это я и без тебя вижу. Но почему она здесь? И что внутри?
Я устал. Я так устал.
— Ну-ка, ну-ка, что внутри, говори на раз-два-три!
Я так устал от него.
— Раз, два…
— Яд, — сказал я. — Внутри — яд.
Он сразу же разжал пальцы. Но я поймал ее: реакция у меня всегда была ничего. Теперь колба была в моих руках — и такая диспозиция нравилась мне куда больше; впрочем, если бы он захотел забрать ее, я был бы обязан ему отдать…
— Отдай! — старик умоляюще уставился на меня с блестящей поверхности красного осколка. — Отдай колбу! Я ее вижу! Пожалуйста! Отдай мне ее, пожалуйста!
— А это что за старый козел? — Мой гость с интересом разглядывал старика.
— Хозяин дома, — объяснил я. — Бывший.
— Та-а-ак, — удовлетворенно протянул кредитор. — Давай-ка рассказывай, что к чему.
— Тебя не касается, — промямлил я.
— Вот именно, не касается. — огрызнулся старик.
— Ну, как хотите… Значит, я, пожалуй, эту колбочку возьму, — он потянулся ко мне.
— Нет!
— Ну тогда я тебя внимательно слушаю. Тайну расскажи, душу обнажи…
И я рассказал — хотя что тут рассказывать!..
…Из эвакуации вернулись не все. Лиза не вернулась, и моя мама тоже. Я старался себя убедить, что она просто осталась с Лизой и маленькой, а не сгинула в промозглом товарняке, еще по дороге туда, но проверить никак не мог, и поверить тоже. И, вспоминая о матери, всегда с ужасом ловил себя на том, что думаю о ней как о мертвой…