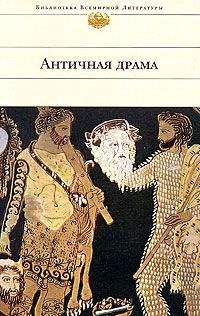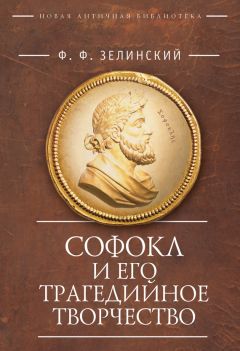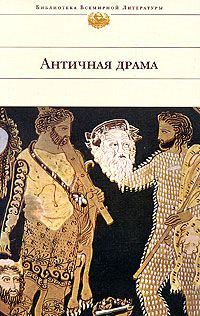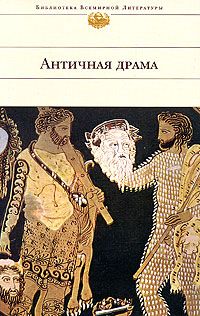Уильям Хьёртсберг - Сердце Ангела
Епифания змейкой скользнула к яме, наклонилась над ней и ловким движением бритвы перерезала петуху горло. Кровь хлынула в темную яму. Победная песнь перешла в клекочущий вопль. Умирающая птица отчаянно била крыльями. Радеющие стонали.
Епифания положила истекающего кровью петуха у края ямы. Он еще недолго бился, дергая связанными лапами, потом раскинул крылья, дрогнул в последний раз и медленно сложил их. Один за другим люди склонялись над ямой и бросали в нее приношения. Горсти монет и сушеной кукурузы, печенье, конфеты, фрукты. Одна женщина вылила на петуха бутылку кока-колы.
Потом Епифания взяла обмякшую птицу и подвесила ее к дереву вниз головой. Ритуал подходил к концу. Несколько человек подошли к висящему петуху и зашептали ему что-то, склонив головы и сложив ладони. Остальные собрали свои инструменты, крест-накрест по кругу пожали друг другу руки — сперва правую, потом левую — и растворились в темном парке. Ножка, Епифания и двое-трое других пошли по тропинке в сторону Гарлемского озера. Все молчали.
Я последовал за ними, держась края тропинки и прячась за деревьями. Возле озера тропинка раздваивалась. Ножка пошел налево, Епифания и остальные — направо. Я мысленно подбросил монетку. Получилось, что нужно идти за Ножкой. Он направился к выходу на Седьмую авеню. Так. Даже если он сейчас и не поедет прямо домой, то, вероятно, все равно скоро там появится. Надо его опередить.
Я, пригибаясь, пробрался сквозь кусты, перелез через стену из грубого камня и помчался через Сто десятую. Добежав до угла Сент-Николас-авеню, оглянулся. У ворот парка мелькнуло белое платье Епифании. Она была одна.
Я подавил в себе желание подкинуть монетку еще раз и побежал к «шевроле». Машин почти не было, и я пролетел перекрестки Седьмой и Восьмой на «зеленой волне». Потом я свернул на Эджкомб-авеню и проехал по Бродхерст вдоль Колониального парка до пересечения со Сто пятьдесят пятой улицей.
Я оставил машину на углу бара Макомба и пешком прошел кварталом Гарлем-ривер. Это были симпатичные четырехэтажные домики, окружившие дворы и супермаркеты. Архитекторы времен Великой депрессии подошли к проблеме государственного жилищного строительства куда цивилизованнее, чем нынешние отцы города, столь возлюбившие жуткие бетонные глыбины, именуемые домами.
На Сто пятьдесят второй я нашел нужную дверь и осмотрел ряд медных почтовых ящиков, вделанных в кирпичную стену. На одном из них должна была быть фамилия Ножки и номер квартиры.
Дверь подъезда я открыл перочинным ножиком за две секунды, поднялся на третий этаж, осмотрел замок на Ножкиной двери и понял, что без набора отмычек из моего дипломата делать тут нечего. Я сел на ступеньки лестницы, ведущей на следующий этаж. Что ж, подождем.
Глава семнадцатая
Долго ждать не пришлось. Вскоре послышалось натужное пыхтение Ножки, одолевавшего лестницу. Я затушил сигарету о подошву. Не заметив меня, Ножка опустил сумку на пол и принялся рыться в карманах в поисках ключей. Как только он открыл дверь, я перешел в наступление.
Не дав ему выпрямиться (Ножка как раз нагнулся, чтобы подобрать сумку), я одной рукой ухватил его за шиворот, а другой втолкнул в квартиру. Ножка повалился на колени, сумка с грохотом упала в темноту, как мешок, полный гремучих змей. Я включил верхний свет и запер дверь.
Тяжело сопя, словно загнанный зверь, Ножка поднялся на ноги и выхватил из кармана опасную бритву. Я переступил с ноги на ногу.
— Спокойно, старик, не дури — хуже будет.
Он что-то пробормотал и неуклюже подался вперед, размахивая бритвой. Я перехватил его руку левой рукой, сделал шаг вперед и врезал ему коленом в брюхо. Ножка сразу обмяк и, негромко охнув, сел на пол. Я слегка вывернул ему запястье, и он выронил бритву на ковер. Носком ботинка я отфутболил ее к стене.
— Глупо себя ведешь, Ножка, — заметил я, подобрав и сложив бритву.
Ножка сидел, схватившись за живот, словно боялся, что если отпустить, он отвалится.
— Что тебе надо? — простонал он. — Ты не из журнала.
— Я смотрю, ты умнеешь. Теперь бросай ныть и выкладывай все, что знаешь о Фаворите.
— Мне плохо. Ты мне внутри всё разворотил.
— Ничего, оклемаешься. Дать тебе на что сесть?
Ножка кивнул. Я подтащил поближе оттоманку черно-красной марокканской кожи и помог ему взгромоздиться на нее. Он все охал и держался за живот.
— Слушай, я тут ваши пляски видел в парке. И Епифанию с петухом. Что это еще за чертовщина?
— Обеа, — со стоном выдохнул Ножка, — вуду. Ты что думал, все черные баптисты?
— Так. А Епифания? Она тут при чем?
— Она мамбо, как ее мать была. В нее вселяются могучие духи и говорят с нами. Она с десяти лет в хамфо ходит. В тринадцать уже жрицей была.
— Это когда Евангелина заболела?
— Вроде того.
Я протянул Ножке сигарету, но тот покачал головой. Я закурил и задал новый вопрос:
— А Фаворит этим вашим вуду занимался?
— А ты что думаешь, он с мамбо просто так жил?
— И на радения ваши ходил?
— Конечно, ходил. Много раз. Он был хунси-босал.
— Кто?
— Хунси-босал. Посвященный, но некрещеный.
— А крещеных как зовут?
— Хунси-канзо.
— Ты-то, небось, канзо?
Ножка кивнул.
— Я уж давно крещеный.
— И когда ты его последний раз видел на ваших курощипаниях?
— Говорю тебе: до войны еще.
— Так. А куриная нога? С бантиком, на пианино. Что сей сон значит?
— Значит, болтаю много.
— Про Джонни?
— Про все сразу.
— Что-то ты, Ножка, темнишь, — я дунул ему в лицо сигаретным дымом. — В гипсе играть не приходилось?
Ножка привстал было, но тут же скривился и повалился обратно на оттоманку.
— Ты что! Ты же не станешь…
— Стану, если понадобится. Я пальцы ломаю, как ты галеты.
В глазах старика Ножки промелькнул нешуточный страх. Я хрустнул костяшками для пущей убедительности.
— Не надо! Я тебе что хочешь скажу, я ведь с самого начала тебе правду говорил.
— Видел Фаворита в последние пятнадцать лет?
— Нет.
— А Евангелина? Не говорила, что, мол, видела, встречалась?
— Не слышал. В последний раз она его лет восемь назад поминала, а то и десять. Я еще запомнил, потому что тогда профессор какой-то приезжал. Он книгу писал про Обеа, ну и ему там что-то нужно было, вопросы какие-то. Евангелина ему говорит: белых в хамфо не пускают. А я ее решил подколоть, говорю: только если они поют хорошо.
— А она что?
— Погоди, не гони. А что она? Не рассмеялась, но и злиться особо не стала. Говорит мне: «Слушай, Ножка, если бы Джонни был жив, был бы хорошим хунганом. Только это не значит, что я каждого белого писаку буду пускать, если ему в голову взбредет явиться в хамфо». Так что для нее он уж точно умер.