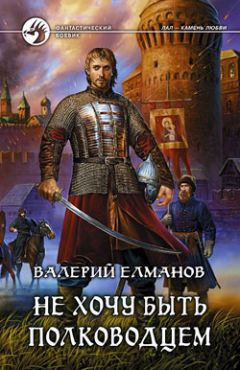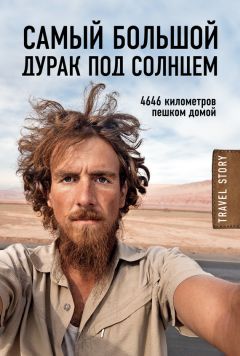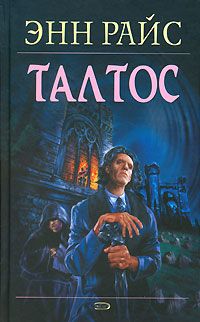Энн Райс - Талтос
«Я вижу перед собой некую чашу. Я вижу чашу с кровью Христовой, которую Иосиф Аримафейский привез в Англию. Я вижу, как кровь Христа вылилась в источник, вижу, как вода покраснела, и знаю, что это значит. Кровь Христа — наше причастие и наша пища. Она навсегда заменит проклятое молоко, которое мы искали у наших женщин в своей похоти; она будет нашим хлебом насущным и нашей участью. А ту ужасную резню, что случилась сегодня, пусть Христос примет как наше первое великое самопожертвование. Потому что нам отвратительно это убийство. Оно нам отвратительно, и так будет всегда. Отныне мы будем убивать только врагов Христовых, чтобы царствие Его пришло на землю, чтобы Он правил вечно».
Это было искусство речи в его высшей форме. Я говорил с убеждением и слезами, и мои слова заставили всех, людей и Талтосов, прославлять Христа и восхвалять Его, бросить мечи на землю и сорвать с себя дорогие наряды, браслеты и кольца и заявить, что они родились заново.
Но в то самое мгновение, когда все эти слова сорвались с моих губ, я понял, что это ложь. Эта религия была обольщающей, и тело и кровь Христовы могли убивать так же надежно, как и яд.
Но мы были спасены, те, в ком видели чудовищ. Толпа больше не жаждала нашей смерти. Мы были спасены — все, кроме Жанет.
Они поволокли ее к столбу. Я протестовал, плакал и умолял, но священники заявили, что Жанет должна умереть — умереть в пример всем тем, кто откажется принять Христа.
Костер запалили.
Я бросился на землю. Я не мог это вынести, вскочил и побежал к медленно разгоравшемуся костру, но меня тут же оттолкнули, оттащили назад.
«Эшлер, ты нужен своему народу!»
«Эшлер, пусть это будет примером!»
Жанет не сводила с меня глаз. Пламя уже лизало ее розовое платье, ее длинные светлые волосы. Она моргнула, чтобы лучше видеть сквозь поднимавшийся дым, и закричала, обращаясь ко мне:
«Будь проклят, Эшлер, проклят навеки! Пусть смерть вечно избегает тебя! Блуждай вечно — без любви, без детей, и пусть твой народ пропадет, и наше чудесное рождение станет для тебя просто мечтой в твоем одиночестве! Я проклинаю тебя, Эшлер! И пусть мир рухнет вокруг тебя раньше, чем кончатся твои страдания!»
Пламя взвилось вверх, закрыв ее нежное лицо, и громко заревело. А потом снова раздался голос Жанет, громкий, полный боли и мужества:
«Проклинаю Доннелейт, проклинаю навеки всех, кто здесь живет! Проклинаю клан Доннелейта! Проклинаю народ Эшлера!»
Что-то дергалось в глубине костра. Не знаю, была ли это Жанет в последнем всплеске агонии или просто игра света и теней.
Я упал на колени. Я не мог справиться со слезами и не мог отвести взгляд. Я как будто должен был проникнуть как можно дальше в ее боль и молил об этом Христа: «Она не понимает, что говорит, возьми ее на Небеса! За ее доброту к другим, за ее доброту к людям возьми ее на Небеса!»
Пламя взлетело к небу и тут же начало угасать, открыв взглядам столб, тлеющую гору древесины и обгоревшие плоть и кости, недавно бывшие грациозным созданием старше и мудрее меня.
В долине было тихо. От моего народа остались всего пятеро мужчин, давших обет безбрачия.
Жизни, продолжавшиеся многие века, были уничтожены. Отрубленные руки и ноги, головы, изуродованные тела валялись вокруг.
Люди-христиане плакали. Мы плакали.
«Проклятие Доннелейту — так она сказала. Проклятие. Но, Жанет, моя милая Жанет, — думал я, — что еще может с нами случиться?»
Я упал на землю.
В то мгновение я больше не хотел жить. Я не хотел страданий и смертей и даже самых лучших стремлений, если они превращали все в руины.
Подошли монахи и подняли меня на ноги. Мои последователи воззвали ко мне. Я должен пойти, сказали они, и увидеть чудо, случившееся, перед тем как были разрушены и сожжены башня, некогда служившая домом Жанет, и те, что стояли рядом с ней.
Они потащили меня туда, ошеломленного, лишившегося дара речи, и наконец я начал понимать, что старый источник, давно уже пересохший, внезапно вернулся к жизни: из земли снова била чистая вода, пробивая себе дорогу по древнему сухому руслу между пригорками и корнями деревьев и теряясь в зарослях диких цветов.
Чудо!
Чудо… Я задумался. Следовало ли мне говорить о том, что этот источник иссякал и возрождался много раз за столетие? Что эти цветы цвели и вчера, и за день до этого, потому что земля здесь была достаточно влажной, так как источник уже пробивался на поверхность и вот теперь прорвался?
Или мне следовало сказать: «Воистину чудо!»
И я сказал: «Это знак».
«На колени все! — воскликнул Ниниан. — Искупайтесь в святой воде! Смойте кровь тех, кто не захотел принять милость Божию и теперь обречен на вечные муки!»
Жанет будет вечно гореть в аду, в костре, который никогда не погаснет, и я продолжал слышать ее голос, проклинавший меня…
Я содрогнулся всем телом и едва не потерял сознание, но опустился на колени.
В душе я знал, что новая вера должна захватить меня целиком, поглотить всю мою жизнь — или я пропаду навеки!
У меня не было больше надежд, не было мечтаний; у меня не было слов и не было сил желать чего-нибудь. Это должно было меня спасти, или мне пришлось бы умереть прямо здесь, по собственной воле, чтобы никогда больше не говорить, не двигаться, не пробовать молока…
Я почувствовал, как мне в лицо плеснула холодная вода, как она потекла по моей одежде. Другие Талтосы подошли ближе. Они тоже купались. Монахи запели неземной красоты псалмы, которые я слышал на Айоне. Мой народ, человеческие существа Доннелейта, плакали и печалились, стремясь к некому великому освобождению, и тоже пели на старый лад, повторяя строки после монахов, пока все голоса не слились воедино, славя Господа.
Нас всех крестили во имя Отца, и Сына, и Святого духа.
После этого клан Доннелейта стал христианским. Весь, кроме пятерых Талтосов.
Еще до наступления следующего утра были найдены еще несколько Талтосов, в основном очень молодых женщин, которых прятали в своем доме двое недавно родившихся мужчин, и они видели из дома всю трагедию, включая казнь Жанет. Всего их было шестеро.
Люди-христиане привели их ко мне. Они не желали говорить, не принимали и не отвергали Христа, а просто в ужасе смотрели на меня. Что мы должны были сделать?
«Пусть уходят, если хотят, — сказал я. — Отпустите их из долины».
Никому больше не хотелось крови и смертей. А юность и невинность как будто создали щит вокруг найденных Талтосов. Как только новообращенные отступили назад, эти Талтосы убежали, ничего не имея на себе, кроме одежды, прямиком в лес.
В последовавшие затем дни мы, пятеро мужчин, что остались в живых, завоевали благосклонность людей. В лихорадке новой веры они благодарили нас за то, что мы принесли им веру в Христа и почитали за данный нами обет целомудрия. Монахи день и ночь напролет готовили нас к посвящению в сан. Мы размышляли над священными книгами и непрерывно молились.
Мы начали возводить церковь — огромное строение из камней без известки в романском стиле: с арочными окнами и длинным нефом.
А я лично возглавил процессию к старому кругу, где мы стерли все символы давних времен и вырезали на камнях новые, из Евангелий алтарной книги.
Там была рыба — символ Христа, голубка — символ апостола Иоанна, лев, символизирующий Марка, бык — символ Луки и человек — символ Матфея. С увлеченностью Талтосов мы высекали на плоских камнях библейские сцены в том самом стиле, в каком они были изображены в книге: весьма затейливо, со множеством украшений.
То было нечто вроде краткого перерыва, во время которого к нам вернулось подобие прежней лихорадки, когда-то охватывавшей нас на равнине Солсбери. Но теперь нас осталось всего пятеро — пятеро тех, кто отрекся от собственной природы, чтобы угодить Богу и людям-христианам, пятеро, на которых возложили роль святых в обмен на жизнь.
Но в нас затаился мрачный ужас. Как долго будет продолжаться это затишье? Не свалит ли нас с пьедестала даже малейшая ошибка?
Я постоянно молил Бога помочь мне, простить мне все мои ошибки, позволить мне стать хорошим священником, но знал, что мы пятеро не сможем долго оставаться в Доннелейте.
Я просто не мог выносить все это! Даже во время молитв или пения псалмов вместе с монахами я слышал проклятия Жанет, видел свой народ, залитый кровью. «Боже, дай мне веру», — молил я, но в глубине сердца не верил, что для моего рода есть только один путь: отречение и целомудрие. Как такое могло быть? Неужели Господь хотел, чтобы мы вымерли?
Это не было самопожертвованием — это было некой формой крайнего отречения. Ради Христа мы должны были исчезнуть!
Но любовь к Христу продолжала гореть во мне. Она отчаянно обжигала меня. И еще у меня было очень сильное ощущение того, что мой спаситель проявляется во мне, как и во всех христианах. Ночь за ночью я видел в медитациях чашу с кровью Христовой, священный холм, на котором цвел боярышник Иосифа, кровь в воде источника. Я поклялся совершить паломничество в Гластонбери.