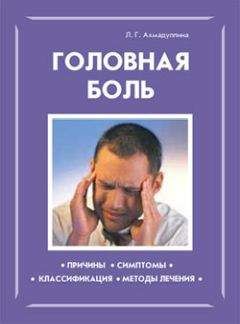Алексей Грушевский - Игра в Тарот
— Это наше последняя встреча в этом мире. Вы отвергните и бросите меня. Все.
— Как все? А я? — недоумённо уставился на него лежащий ближе всех верный солдат Пётр.
— И ты, не успеет петух прокричать, как отречёшься — в мрачной решимости ответил Еуша.
Хорошее вино сыграло с ним злую шутку. Разлившиеся по нему тепло опьянения, видно наложившись на неудачи и треволнения последних дней, привело к тому, что ему стало жалко себя, чувство собственной слабости, как это бывает, вылилось в агрессию на любящих его окружающих. Безотчётно он хотел только одного, чтобы им стало так же тоскливо и плохо, как и ему, и потому он продолжал и продолжал:
— Уйду я от вас. Надоели. Недостойны вы все меня. Пойду на небо. К Отцу моему, ибо я и есмь истина. А вы… что вы все без меня? Только через меня вы все узрели истину, а я пойду от вас, на небо….
В нахлынувшим на него пьяном расстройстве, он встал, не забыв, однако, захватить полный вина кувшин и факел, и направился к выходу, стремясь поскорей выйти из ставшей вдруг тяжёлой и затхлой атмосферы замкнутой комнаты, совершенно позабыв требования опытного Руфия, не покидать убежище до окончания пейсаха. Первым за ним, едва не упав, поднялся Пётр. Затем неохотно потянулись и другие, забирая с собой кувшины с вином, лепёшки и факелы.
Нестройная толпа, шумно обсуждая последние события и громогласно славя Царя Иудейского, сына Давидова, потянулась прочь из города, по совершенно пустой в этот час дороге ведущей к Елеонской горе. Выйдя за город, они, шатаясь, еле пересекли Кедронский поток (так что, то, что они все скопом в нём не утонули, несомненно, ещё одно незаслуженно забытые хронистами чудо) и стали подниматься в гору, склоны которой утонули в многочисленных масленичных садах.
Глава 12. История одного обмана (Часть третья)
Идти в гору было, однако, трудно, и скоро они, выдохнувшись, устроились под маслинами, продолжив на свежем воздухе в лунном свете что-то вроде шумного ночного пикника. На этот раз они не сидели почтительно кружком вокруг Еуши, а разбрелись по всей лужайке, разбившись на пары и тройки, поглощая захваченные из гостеприимного дома запасы вокруг воткнутых в землю факелов. Некоторые из них уже заснули, другие, громко чего-то гогоча, продолжали пьянствовать, совершенно не обращая внимание на сумрачное настроение бродящего как тень между ними в сопровождении сурового Петра своего учителя.
Еуше, по мере выветривания алкоголя на свежем воздухе, открылась вся шаткость его нынешнего положения — он оставил убежище. Их толпа шумно прошла по улицам города в совершенно неурочный час, своими пьяными криками будя горожан и привлекая всеобщее внимание. Наверняка стража при воротах заметила, как они выходили из города. И, наконец, они остановились в непосредственной близости от городских ворот, на склоне залитой лунным светом Елеонской горы, свет от факелов и пьяные крики с которой далеко разносились по погружённой в ночную тишину округе. Если Руфий прав, и его активно ищет храмовая стража, то, он понимал, ареста при таких условиях можно было ждать в любой момент.
Он с Петром, шатаясь между маслин, начал тушить факела, как заметил потянувшуюся от ворот цепочку огней. Бежать возможности не было, хоть голова и немного протрезвела, но ноги были словно ватные, так что он еле ходил после доброго римского вина. Поэтому оставалось только надеяться, что эти факельщики идут не за ними.
Страх овладел им. Да, прокуратор обещал не допустить самосуда — а если его люди не успеют? Да, прокуратор обещал не приговаривать его к смерти — но так ли он всесилен? Ведь он, несмотря на всю свою власть, ограничен законом, который в этом случае явно на стороне Храма. Да, колдунья обещала опоить его своим волшебным зельем — но, вдруг ей это не удастся, или зелье не сработает, на этот раз? Сомнения, сомнения мучили его. Ведь его жизнь, будь он схвачен, уже не принадлежала бы ему, а становилось объектом борьбы могущественных политических сил. И сможет ли его защитить прокуратор, если он сам советовал ему не попадаться, бежать и прятаться в случае неудачи? И так ли всесильна колдунья? И что они смогут сделать, если Храм поднимет против него весь город полный фанатичных, оскорблённых им, верующих?
За страхом пришло отчаянье — он зарыдал, бессильно упав на колени. Он молил о спасении, о том, чтобы судьба пронесла мимо, кажущуюся теперь уже совершенно неизбежную, горькую чашу ареста, суда и наказания.
Поток необычно яркого в это полнолуние света лился сверху прямо на него, плавно растекаясь и погружая всё вокруг в серебристое сияние, из которого выступали причудливые тени старых маслин. Внизу, полупогружённые в полотно белесого тумана, темными размытыми пятнами беспорядочно храпели апостолы, рядом с ними высились, среди обтекающих их лёгких токов сверкающих струй ночной дымки, казалось, колышущееся палки погасших факелов, и едва угадывались лёгкие уплотнения там, где были кувшины и остатки лепёшек.
В центре этого сошедшего на землю сверкающего волшебства стоял на коленях, молясь о спасении, плачущий Еуша, рядом с грозно возвышающимся Петром, тревожно наблюдавшим за быстро приближающейся цепью огней.
Неожиданно раздался крик:
— Равви, равви, беги, беги! Они идут сюда. Скорее бегите! Все уходите….
Это визжал, бешено бегущий Иуда. Он метался между маслинами, порождая за собой вихрящейся след разорванного его бегом тумана, пиная и теребя, едва ворочающихся пьяных соратников, в тщётной надежде успеть их поднять раньше, чем их накроет погоня. Увидев Еушу, он, рыдая, бросился перед ним на колени, лобызая и умоляя немедля бежать.
— Равви, равви, беги, беги, равви! — рыдал совсем недавно оклеветанный и изгнанный казначей.
Уже были видны поднимающиеся из дымки фигуры многочисленных стражников окружающих место широким полукругом. В страхе Еуша, очнувшись от забытья молитвы, огляделся и понял всю безнадёжность положения. Единственное что ему пришло в голову, так это заорать на верного Иуду:
— Ты что орёшь? Выдашь! Уйди, ты меня выдашь. Уйди!
Иуда бросился прочь. Тут же к Еуше подбежали первые стражники, размахивая факелами и дрекольем. Пётр, двинувшись им навстречу, резко выхватил пару мечей и перед храмовыми служками завертелся вихрь острого металла. Один из них оказался неосторожным, не отступил вовремя, и тут же он, взвыв от боли, бросился бежать, зажимая рану на месте мастерски срезанного уха. Храмовая стража, в ужасе, осадила назад. Несколько их не боясь, Пётр радостно и вдохновлено, играл двумя своими мечами, нарезая вокруг Еуши всё более и более широкие круги и тем, всё дальше и дальше тесня робеющее перед ним кольцо охвативших их стражников. Неожиданно строй стражи разомкнулся, и к ним вышел Руфос с двумя солдатами. Пётр тут же опустил мечи и отошёл назад, к Еуше, как бы загородив его собой.
— Я сдаюсь им, Пётр — обречённо вздохнул Еуша, и сделал шаг навстречу Руфосу.
Римские солдаты встали по бокам, и Еуша пошёл между ними обратно в город. За ними, на некотором расстоянии беспорядочно потянулась многочисленная, возбуждённо что-то галдящая, храмовая стража, неровно ощетинившись палками и факелами. Никто его не вязал, не заламывал руки, не бил и оскорблял. Он шёл между закованными в сталь легионерами как свободный человек, римский гражданин. Оглянувшись, последний раз, Еуша увидел, как его, наконец-то пробудившиеся, апостолы быстрыми ужами испугано расползаются с залитой лунным светом лужайки в тени раскидистых маслин.
Там, где только что было их импровизированное стойбище, остались только черепки
битых кувшинов, куски обглоданных лепешек, беспорядочно разбросанные потухшие факелы и, кроме того, темнели в лунном свете бесформенными пятнами кучки брошенного мятого тряпья, видно кто-то из апостолов удирал нагишом. Посреди этого разгрома стоял Руфос, и что-то тихо говорил внимательно внимающему почтительному Пётру.
Процессия быстро прошла, словно, вымерший город и доставила Еушу во дворец первосвященника. Римские солдаты тут же покинули его, передав в руки слуг синедриона. Некоторое время Еуша стоял посреди двора, окружённый насмехающимися над ними стражниками. Разглядывая двор, Еуша заметил, как вошёл Пётр. Видно он был послан Руфосом в качестве наблюдателя, так как он никак не выдавал свою принадлежность к сторонникам Еушы, и даже, когда его прямо об этом спросили, с негодованием отверг эти подозрения.
Появился слуга, который в некоторой степени, даже, неожиданно почтительно, пригласил Еушу идти за ним. Скоро он оказался в небольшой аскетически обставленной комнате. Всё убранство её составляли лишь культовые предметы, многочисленные свитки, сложенные в стенных нишах, и простые деревянные скамейки вдоль стен. На одной из них сидел почтенный старик. Он кивком головы указ Еуше, чтобы он садился. Некоторое время они в молчании смотрели друг на друга. Еуша узнал его, это был Анна, сын Сифа. Самый старый и мудрейший учитель, более полувека бывший первосвященником, и даже смещённый Валерием Грантом, он по-прежнему негласно оставался им, настолько был непреклонен его авторитет. Мудрый старик первый обратился к Еуше: