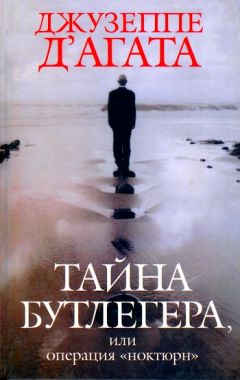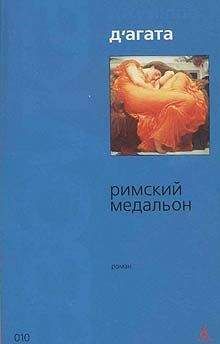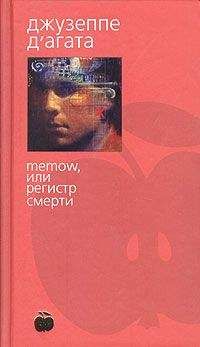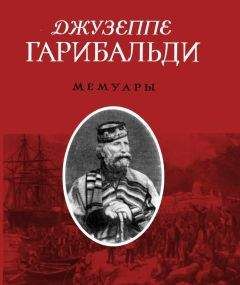Джузеппе Д’Агата - Америка о’кей
Воспользовавшись учебником электроники, который уж не помню где и откопал.
Доброй старой электроники, давно забытой. Насколько я знаю, электронную технологию, прежде всего — микроэлектронику, навязали всему миру японцы.
Конечно, до того, как они исчезли, поглощенные морем, вместе со своей скудной землей — ой, кажется, это вулканы сыграли с ними злую шутку.
Или война. Между ними и нами. Считанные секунды. Давным-давно.
Невесть когда, люди.
Раньше для измерения хода (течения) макроскопического времени существовали календари.
Месяцы или луны.
Годы.
Века.
Помимо двух нынешних времен года имелись еще два. Но пользы (проку) от них было немного, и их включили в два основных времени года. Теплое и холодное.
Посмотрим: Иоанн моется. Во всей курии он единственный, кто это делает. Я спрашиваю себя, не выходит ли это за рамки. По-моему, выходит.
Но Иоанна шантажом не возьмешь.
Грязь — правило, однако нет закона, который бы запрещал чистоту тела.
Рассуждая на эту тему, у, можно представить чистоту как реставрацию, как средство сохранения. Одним словом, как форму экономии. Что является несомненным злом с точки зрения нашей религии.
Религии, имя которой — религия отказа.
О ней я скажу (поведаю вам) позже.
Что касается Иоанна, повторяю: шантажом его не возьмешь.
Вот его покровитель — папа Эдуард, глава церкви и государства.
Мой отец.
Он спит в своей огромной постели, заляпанной супом, кровью, спермой, пóтом, слюной, экскрементами, рядом с комнатой, где его любимчик Иоанн нежится в ванне.
Папа спит.
Большую часть времени он посвящает искусственному сну. У, его нейроны накачены снотворным. Транквилизаторами.
Если он растворяет (сводит на нет) во сне такую упоительную штуку, как власть, отправление власти, значит, он — о! — окончательно впал в маразм.
Женщина на другом мониторе — Маргарита.
Старая Маргарита — моя мамаша — привычно берет десять пакетов смеси растительного порошка с мясным экстрактом.
Девять, по обыкновению, она выбрасывает, даже не тронув (не повредив) прозрачную полиэтиленовую упаковку. Так сказать, сорит добром. Открыв десятый пакет, она высыпает содержимое в скороварку и ставит ее на огонь.
Папский обед готов.
Сегодня, как в любой другой день.
Что верно, то верно: огромная Маргаритина кухня — ух! — производит впечатление. Мусоросборник диаметром в восемнадцать футов переполнен, и слой мусора на полу достигает добрых трех футов; правда, тут и там оставлены проходы (дорожки) для удобства хозяйки.
Роскошная кухня, достойная папской особы.
Тем более что речь идет о самом могущественном папе в истории.
Я сижу — у! — почти под самой крышей. Из окошка дворца мне виден изрядный кусок города. Не знаю, есть ли наверху небо (никто на него не смотрит), но сквозь толщу дыма и пара над многочисленными заводами проступают силуэты новых жилых домов.
Построенных в виде высоченных башен.
Красота!
Это настоящие колодцы, способные вместить тонны и тонны ценного мусора. Ах!
Люди на работе. На улицах одни женщины, они высыпали за покупками. Все как полагается.
Нормально.
Баста! Сколько раз я говорил себе (внушал), что пора действовать. Но вечно что-то (лень, осторожность, страх) заставляло меня откладывать решительные действия. Оттягивать.
Завтра, подожди до завтра, Ричард.
Стыдись, Ричард, тряпка ты, слизняк, как говорит мой отец.
Впрочем, бесконечное откладывание должно было обеспечить мне минимум три преимущества.
Во-первых, меня перестали опасаться. Все надо мной смеются, считают идиотом, безобидным пауком.
Во-вторых, тем временем во мне родилась и окрепла ненависть (а не только скука). Не знаю, люди, чем это кончится, но я чувствую себя сжатой до отказа пружиной, которая, если ее отпустить, распрямится со страшной силой.
В-третьих, я научился не худо читать и писать.
Наверняка тех, кто умеет это делать, хотя и не так, как я, во всей великой Стране можно сосчитать по пальцам. Больше не наберется.
Горстка людей, которые, согласно старым правилам (правила я изменю), держат в своих руках власть.
Лично я противник всех правил.
Почти всех.
У себя в комнате я сохранил осколок зеркала.
Мне нравится в него смотреться. О! До чего ты хорош, Ричард! Второго такого страшилу поискать днем с огнем. Просто загляденье. Рассматривая (изучая) свое неописуемое, несравненное уродство, я испытываю щемящее удовольствие.
Я надеваю черную тунику, в которой похож на гигантского паука. Ядовитого паука.
Кто знает, отчего в этом совершенном, в этом белковом, жировом, углеводном, витаминном мире, в этой великой Стране, лучшей из всех возможных стран, хромосомы, давшие мне жизнь, оказались не на высоте?
Я — исключение.
Иными словами, брак, мусор, ноль — эхехехехехе. Увы и ах!
Я должен совершить обряд, это принесет мне удачу (у, успех). Поможет действовать трезво и разить наверняка.
И не завтра, а сегодня.
Немедленно.
2
Я беру — у! — свою любимую книгу.
Приключения Ричарда III.
Книга истрепана. Покоробившиеся, задубелые (не только от времени, но и от моих слез, пролитых над ними) страницы.
Они напечатаны на древнем языке, сам не знаю — когда.
Слушайте дальше, люди (друзья?).
Читать первый (начальный) монолог я иду в тронный зал.
Эхехе.
Здесь нынче солнце Йорка злую зиму
В ликующее лето превратило;
Нависшие над нашим домом тучи
Погребены в груди глубокой моря.
У нас на голове — венок победный;
Доспехи боевые — на покое;
Весельем мы сменили бранный клич
И музыкой прелестной — грубый марш.
И грозноликий бог чело разгладил;
Уж он не скачет на конях в броне,
Гоня перед собой врагов трусливых,
А ловко прыгает в гостях у дамы
Под звуки нежно-сладострастной лютни.
Лютня.
У меня никогда не хватит воображения представить себе, что такое лютня. Наверняка тогда и в помине не было музыкальных компьютеров.
Я делаю передышку. Чтение «Ричарда III» вслух — ух! — возбуждает меня, временами я срываюсь на крик и потому быстро устаю.
Но я не создан для забав любовных,
Для нежного гляденья в зеркала;
Я груб; величья не хватает мне,
Чтоб важничать пред нимфою распутной.
Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой; я недоделан, —
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают.
Дойдя до этих слов, я, как всегда — о да! — испытываю потребность двигаться.
Горб, из-за которого у меня опущена голова, так что приходится вытягивать шею, если не хочешь все время смотреть в пол, кажется мне сейчас не столько неотъемлемой (и неисправимой) частью моего тела, сколько внезапным бременем, навалившимся мне на плечи.
Ох.
Я выставляю вперед правую ногу, ту, что короче, стараясь опустить ее для устойчивости носком наружу, потом описываю дугу (уф!) левой, сухой и негнущейся, и в результате (в итоге) продвигаюсь на шаг.
И все равно, друзья, если б сегодня — сейчас — мне сказали: «Так, мол, и так, ты можешь стать стройным и ловким, как все нормальные люди», я бы отказался.
Уверен, что (на сегодняшний день) отказался бы.
Пусть приходят, если им нечего делать, пусть предлагают.
Эхехехе.
Еще несколько шагов, и я ору-у-у во все горло заключительные слова монолога, прекрасные и жуткие:
Чем в этот мирный и тщедушный век
Мне наслаждаться? Разве что глядеть
На тень мою, что солнце удлиняет,
Да толковать мне о своем уродстве?
Раз не дано любовными речами
Мне занимать болтливый пышный век,
Решился стать я подлецом и проклял
Ленивые забавы мирных дней.
Вот это да!
Да, надо признать, что с такой ясностью и глубиной мне бы вовек не выразить моих намерений, моих желаний. (Моих чувств.)
Чем дальше, тем глубже должна быть моя признательность неизвестному, благодаря которому в один прекрасный день я обнаружил возле своего ложа (постели) стопку книг. Ах, книги! Как раз когда я учился читать.
Но этот неизвестный (неведомый) человек, знал ли он, что у нас с Ричардом III гораздо — о, гораздо — больше общего, нежели одно имя?
Я подхожу к компьютеру, торчащему из груды мусора. Нажимаю нужные кнопки.
Машина — ах ты! — не подает признаков жизни.
Проснись, оракул, скажи, что меня ждет, предреки мое будущее, не то я тебя разобью, разнесу вдребезги, заставлю променять твой ленивый сон на слепую машинную ночь!