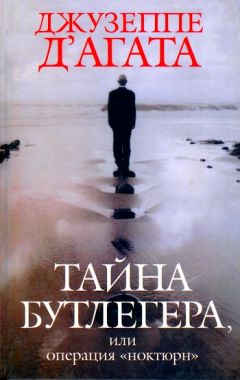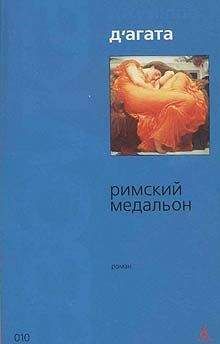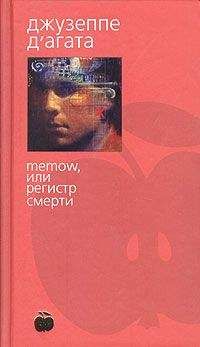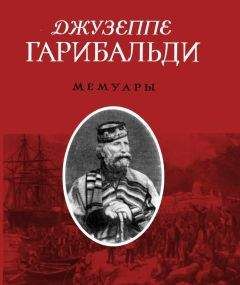Джузеппе Д’Агата - Америка о’кей
Для великого драматурга в этой констатации — оптимистическая убежденность в неизбежной гибели Ричарда. Отсюда и полный надежды финал:
Междоусобий затянулась рана.
Спокойствие настало. Злоба, сгинь!
Да будет мир!..
Но веками далек от подобного оптимизма наш современник Д’Агата: если для Шекспира «Ричард III» — это прежде всего историческая хроника о жизни гениального злодея, то у Д’Агаты герой глубоко символичен. Это принципиальный выбор, страстное, не допускающее никаких «но» обвинение писателя-коммуниста миру капитализма: урод Ричард III, через века протащив свой страшный горб и выжив даже после всемирной катастрофы, вновь является нам сегодня, хотя, разумеется, качественные параметры трагедии претерпели радикальные изменения.
Персонажи «Америки о’кей» зажаты в стандартных бетонных коробках, которые, несмотря на огромные размеры, с трудом просматриваются среди монументальных гор всеобщей помойки. В этих зданиях нет даже окон — в них постепенно отпала нужда, поскольку небо, а значит, и солнце, и дождь, и снег — понятия попросту несуществующие. Эта мертвая зафиксированность природы как нельзя лучше подчеркивает эфемерность жизни людей, стоящих, по сути, гораздо ближе к роботам, чем к мыслящим существам.
На фоне унифицированной массы резко выделяется уродец Рикки. Главный герой Д’Агаты, конечно, неординарен, как и его историко-литературный прототип. Свидетельство тому и достаточно богатый словарь Рикки, и умение читать, и способность мыслить. Тем не менее при сопоставлении двух Ричардов мы обнаруживаем гигантскую пропасть, не во временном, а именно в качественном исчислении.
Был уродлив Ричард III, король Англии. Но куда более — поистине фантастически — уродлив Ричард «посткапиталистический»: «если разрубить тебя на кусочки, а потом опять сложить, не наберется и четверти приличного человека». Однако физическое вырождение, само по себе достаточно важное в обобщающем образе «Америки о’кей», является все же лишь исходной точкой гротескно заостренной иллюстрации главного, что, по мысли Д’Агаты, определяет посткапиталистическое общество: окончательной деградации человеческой личности.
Для Ричарда III уродство — это злой рок, во многом определяющий его ненависть к людям «нормальным» и борьбу за королевскую власть — ведь это единственная реальная возможность утвердить собственное «я», возвыситься над миром, вопреки данному природой физическому несовершенству.
В совершенно иной исходной позиции находится Рикки, которому — в отличие от Ричарда III — «паукообразность» отнюдь не представляется жизненной помехой, напротив, она для него — предмет извращенной гордости, более того, дарованный свыше знак превосходства.
И вот именно этого суперурода писатель сознательно, изначально возвышает над «толпой». А если учесть, что «толпа» — это жалкие существа, в чьих венах вместо крови сточная вода, им неведомо даже понятие смерти (а значит, и жизни), и они исчезают в горловине гигантского мусороприемника «не боясь, не впадая в уныние, не цепляясь за жизнь», то, казалось бы, всякая борьба в этом мире помойки лишена смысла: победа Рикки предопределена. И тем не менее описание интриг «обезьянопаука» занимает преобладающее место в романе. Парадокс? Отнюдь нет. Это еще одна, тоже тщательно, до мельчайших деталей, продуманная Д’Агатой линия трагического фарса: Рикки стремится завоевать власть не потому, что нуждается в ней, он лишь механически следует главному закону своего общества, основанного «на агрессивности и природном эгоизме человека», — закону, вековая незыблемость которого подкрепляется таким ярким примером, как Ричард III.
Умело играя на контрастах, высвечивая то одну, то другую грань внутреннего мироощущения своего главного героя, Д’Агата неумолимо доказывает: Рикки просто не способен пойти дальше жалкого подражательства: доведенная до абсолюта рациональности капиталистическая машина сохранила этому уроду аналитический ум, но (вот он — предел деградации!) полностью лишила ненужных и даже вредных миру будущей помойки клеток, питающих сферу чувств. «Эх, хорошо бы, конечно, кто-нибудь объяснил мне, как это — ненавидеть всей душой! Я подозреваю, что моя ненависть, хоть и похожа на настоящую, чересчур поверхностна, неглубока… Боюсь (опасаюсь), что в самом разгаре операции я вдруг забуду, уф, за что собирался убрать того или иного врага, либо — охохонюшкихохо — еще хуже: не смогу сказать, почему считаю его врагом…»
В этой неспособности чувствовать — весь Рикки: скажем, «интриганство» очень быстро утомляет его, и вот он уже мечтает, примеряясь к королевскому трону («изъеденный жучком топорный стульчак, да и только»): «Хорошо бы еще потом вернулась скука!»
«Безмозглый слизняк!» — характеризует его папаша — король Эдуард, и лучше, пожалуй, не скажешь.
В драме Шекспира и памфлете Д’Агаты очевидно наличие множества сюжетно перекликающихся мотивов, однако смысл сатирической параболы «Америки о’кей» все же не в том или ином повторении или сознательном отклонении от конфликтных ситуаций «Ричарда III», а в постоянном воспроизводстве уродства, причем каждая новая производная на десятки ступеней ниже предыдущей. Иными словами, показывается окончательное растворение личности в океане помойки.
Всякий океан, как известно, при кажущейся бесконечности имеет вполне определенные берега-границы. Для метафорического мусорного океана «Америки о’кей» такой границей является «религия отказа» — весьма своеобразная философия, порожденная вполне определенной экономической структурой. Вот как определяет эту структуру папа-король Эдуард: «Мистеров Уайта, Блэка и Реда (обратим внимание на перевод этих имен: белый, черный, красный — символика очевидна), владеющих крупнейшими предприятиями нашей Страны, не существует. Вернее, больше не существует. Остались только их имена. У нас есть промышленность, но нет промышленников. Капитализм без капиталистов (выделено мной — А. В.)… Они сами убыли. Давным-давно. Решили, что им здесь невыгодно, вот и все. Не знаю толком, куда они делись, не интересовался. У них было намерение развернуться в какой-нибудь отсталой южной стране, где никогда не слышали о финансовом капитале, акциях, дивидендах…
Мы хозяева всего — я и мои кардиналы. Но что толку? Зачем нам богатство, где и на что нам его тратить, когда мы — хозяева мира. С тех пор как нами упразднены банки (а сделать это пришлось потому, что сбережения — первейший враг нашей религии), ушли в прошлое барыши, прибыли. Ты знаешь, все мы живем одинаково, люди довольны, это демократично. Любой доход должен быть вновь инвестирован, все поглощается непрерывным циклом „производство — потребление — помойка“, неумолимой троицей, не допускающей пауз, — в противном случае машина остановится. А стоит ей замедлить ход, как построенное нами общественное здание пойдет трещинами, грозя обрушиться…»
В этом кратком — хотя на фоне других персонажей язык Эдуарда, этого «земного бога», воспринимается чуть ли не как философский трактат — разъяснении сконцентрирована суть «посткапитализма». Д’Агата не только откровенно высмеивает современных буржуазных теоретиков, прогнозирующих будущее своего общества как «капитализм без капиталистов», как систему «всеобщего благоденствия и демократии», он идет дальше и глубже, подвергая беспощадному анализу основополагающие догмы этих построений. Так мы узнаем, что «демократия» этого «капитализма без капиталистов» заключается в том, что все граждане, начиная от самого папы, обязаны значительную часть потребляемых товаров немедленно отправлять на помойку, даже не раскрывая роскошной оболочки. Однако данное понятие «демократии» отнюдь не предполагает равенства: для пополнения личного ассортимента отбросов супруга папы ездит по магазинам в автопоезде, кардиналы — на грузовиках с прицепом, а сошки помельче — в фургонах или на мотоциклах с маленькой коляской; по размерам же личного кладбища вещей определяется и социальная значимость их владельцев. А потому чудовищно логичны «мечты» Елизаветы, жены Рикки, о тех днях, когда она сама поднимется на высшую ступень общества: «…Твоя жена сможет покупать больше всех. Каждый день ездить в торговый центр на грузовике с прицепом. Каждый день привозить оттуда столько, ого-го, сколько никто не привозит, — вот высший о’кей. Для этого надо быть папской женой. Я как вижу на улице белый автопоезд с папским гербом, так плачу — ууу — от умиления».
Хотелось бы, чтобы от читателя не ускользнул и другой принципиально важный момент: в «капитализме без капиталистов» единственным институтом реальной власти остается церковь. Но какая! Д’Агата решительно вычеркивает из арсенала «религии помойки» все без исключения христианские гуманистические постулаты, оставляя церкви лишь две функции: беспощадного подавления еретиков (самым «страшным» представителем инакомыслия в романе оказывается некий безработный, укравший с помойки пару ботинок) и регулирования процесса «потребление — помойка».