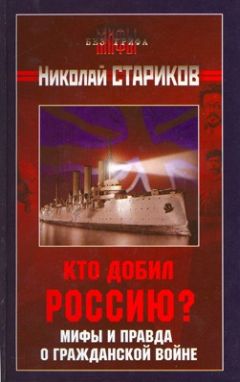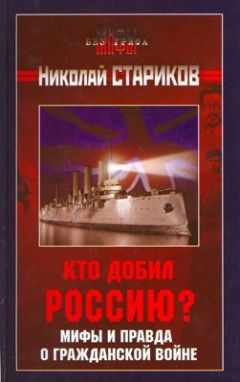Николай Воронов - Сам
Ячеистый свет потонул в темноте, как сеть в ночной лагуне. И голос Болт Бух Грея оповестил:
— Они презрели акт посвящения. Они смели отринуть, дабы посвятил их я сам, верховный жрец. Их идол — чистота. Чистота могла бы развиться до субстанции бога, если бы она была явью, а не миражем. Все существует в смеси. Чистоту пронизывает грязь. В почвенном хаосе, куда горняки сбрасывают породу, так ассенизаторы сливают фекалии, рождаются алмазы и платина, изумруды и золото и растут там до счастливого времени, пока мы не превратим их в богатство. Я приговорил отступниц к замурованию. Они подали прошение помиловать их. Они получат помилование, когда отрекутся от инфантильного понимания чистоты и овладеют духовностью сексрелигии.
В первом пещерном зале жрицы шли позади Курнопая. Перед входом во второй зал, где на дверях вспыхивало табло — Музей Еретиков, — они отстали. Тут была сутемь. В ней с призрачностью зеркалились огромные многогранники. На короткое время какой-нибудь из кристаллов пронимало возбудительным светом. Кристалл разгорался до ртутного сияния, проявляя в себе скелет. Через секунду над кристаллом начинала помигивать табличка с прозвищем и обозначением социального происхождения еретика или еретички, а также с пояснением, за что он или она подверглись замурованию. Приговоры выносились за отказ от посвятительства или посвященчества. Но, к удивлению Курнопая, большей частью в музее выставлялись костяки тех, кто не признавал сексрелигию, выступал против нее устно и средствами нелегального слова. Это скрывалось от курсантов.
Около года тому назад из Сержантитета была выведена Сыроедка, сестра Болт Бух Грея. Еще до возвышения брата, служа в армии, она добилась права есть невареную пищу. В училище Сыроедку чтили за строгое самоограничение, красоту, кровное родство с Болт Бух Греем. И вдруг она исчезла с правительственных горизонтов и потерялась в безвестности.
Курнопай содрогнулся, негодуя, едва в углу музея замигала табличка: «Сыроедка. Из класса фермеров. Возглавляла в Сержантитете отдел молодежных течений. Бойкотировала святую обязанность самийки, предназначенной для улучшения генофонда нации».
В училище не меньше половины курсантов было жестоких, вероломных, мстительных, предрасположенных к несусветным поклепам, которые приходилось отметать даже преподавателям, поощрявшим обман, поэтому Курнопай подумал, что нравственность самийцев выродилась до такой степени, что не могла не вызвать теперешний правительственный курс. Ему подумалось и о том, какой бы неотложно болевой ни была мирная задача общества, ради ее осуществления навряд ли целесообразно предавать казни кого бы то ни было из самийцев, а тут редкий образец девушки, да еще и находившейся на высотах власти.
Курнопаю стало жалко и Сыроедку и себя. Потом он спохватился. Разрушительно так думать. Забыл он философию государственности. Как там сформулирован основной закон? «Примат политики над экономикой и демографическим уровнем общества — залог его справедливого права и грядущего бурного развития». Да-да, он отметает то, в чем не имеет практики. Истина всегда на стороне государства, потому как дух и фундамент державы заложил и вдохнул великий САМ.
Возвращение к училищному восприятию обрадовало Курнопая. Спазм восторга перехватил гортань. Помечталось: если он подаст Болт Бух Грею рапорт о заблуждениях, являющихся следствием прекращения антисониновых уколов, и попросит о помиловании, то, пожалуй, главсерж его простит, пусть и с покаянными испытаниями. Страшней испытаний, какие довелось вынести курсантом, не будет.
28Непроизвольно Курнопай скомандовал себе вслух:
— Кру-гом! — и всласть, со свистом подошв и ударами каблуков повернулся.
Над дверью — она была растворена, хотя он помнил, что прочно ее захлопнул, — горели красные слова: «Выхода нет».
Какое-то возмутительное несоответствие! Обуянный дерзостью, за которую курсанты и преподаватели ругали Курнопая заглазно Трюхнутым Торо, он влетел в смоляную тьму соседнего зала. Он был готов не просто бить головой всякого, кто посмеет ему препятствовать — поддевать, подкидывать, прошибать. Создалось впечатление: пока мчался из музея, на голове взвивались острые рога.
В тишине и непроглядности Курнопай послушал свое взъяренное дыхание. Игра представления неожиданно выманила Курнопая отсюда, из каменной глухоты, в пуховые от ковыля прерии. Увидел себя потерянным бизоном. Сердце забухало от тоски. Хотелось выдать через рев, начинающийся легким взмыком, шипучим из-за горячей накипи слюны, всю горечь одинокости, усиливаемой шелестом ковыля и необозримостью прерий.
Постоял, пытаясь сдержаться, и все же уступил утробной щемящей воле. Едва закатилось эхо его рева в дальние углы зала, душа Курнопая захолонула, охваченная совестливой догадкой. Струсил, чтобы спастись, вот и принял то, в чем усомнился, вот и выскочил из музея. «Выхода нет»? Ловушка. Проверили мужество, убежденность свежих идей и еще что-то насущное, к чему его мысли покамест не пробили дорогу…
Решил возвратиться в музей. Найдет Милягу. Оттуда их уведут в пещеру и замуруют.
Он еще находился во тьме, когда чьи-то ладошки догнали его плечи. Остановился, не смея поверить, что это может быть Фэйхоа. Опахнуло ароматом зрелого плода, название которого стало ее милым именем. К аромату примешался запах сельвы в пору цветения орхидей. Неужто узнала от Ковылко или Каски, а то и от бабушки Лемурихи, что запах орхидей, о котором он забыл помнить, любимый запах его мальчишества?
«Фэй!» — чуть не выдохнул он и насторожился. Ладони, приникшие к плечам, сдвинулись к выступам ключиц, да так порывисто, что он обеспокоился: прямо мужской порыв.
Ладони замкнулись на груди Курнопая.
Дерзкая Кива Ава Чел.
— Бык! — прошептала она и точно бы заключила в ярмо его шею. — Ты угрюм, бык. Ревел — твоя тоска чуть не погубила меня. Не рвись к смерти. Не урод, в славе. Неслыханную судьбу приготовил тебе держправ и мои родители. Не без моего участия. Люблю тебя, бык. Не посвятишь, останется покончить с собой. Бык, после мира солдафонства ты получаешь мир наслаждений. Нет ничего счастливей. Останься жить. Не отбери жизнь у меня…
С момента, когда он выбежал из Музея Еретиков, Курнопай ощущал в себе убывание настойчивости. Не метания разума отразились на нем, не подспудная уловка уцелеть, а то, чего он покуда не сумел определить: без меры усложненное существование Самии, державные цели Болт Бух Грея, не поддающиеся завершенной оценке, бытие САМОГО, которое представлялось вездесущим, всеподчинительным, тоже не всеконтрольное и требующее изворотливости, кидающей в разочарование.
Кива Ава Чел действительно собиралась покончить с собой, но после того как отомстит Курнопаю за неподвластность Болт Бух Грею и установлениям сексрелигии, за неуважение к державе и надругательство над нею и родителями. В брючный карманчик, находящийся возле лодыжки, она воткнула введенный в резной чехол из тисса четырехгранный кинжальчик. Внутрь кинжальчика, где находился яд императорской кобры, был встроен игольчатый стержень. Удар — и стержень просаживает нос кинжальчика и в глубину раны выпрыскивает яд.
Податливость Курнопая обрадовала ее. Все. Посвятит. Пускай придется приводить его в порядок ночь, неделю, месяц (встречаются загадочные особи мужского пола, действие которых в полной зависимости от любви), но она достигнет этого.
— Бык, головорез, у тебя растет щетина. Я губки уколола. Фэйхоа посвящала тебя невинной. Ты будешь посвящать невинную. По секрету скажу — Бэ Бэ Гэ я не поддалась.
Мало-помалу склонялся Курнопай к повиновению Киве Аве Чел. Он позволял ее рукам тискать себя, губам до боли приникать к шее. Вполне вероятно, что, глянув в зеркало, он обнаружит синие кольца на шее, но и этому он не противился. Правда, он проявлял неподатливость, как только она принималась тянуть его к дверям, в лаке которых пульсировал лазурный океанский цвет.
Привыкший к послушанию своего организма, Курнопай боялся, что останется бестрепетным и в пещере посвящений. Кива Ава Чел бьется, страдает, а в нем не вспыхнет ни чувствинки. Чтобы не испытывать укоризны, пока не умрет, Курнопай приказал себе оставаться здесь, где совершают искупление безмолвные отступницы.
Не уставала Кива Ава Чел ласкаться к Курнопаю. Да что не уставала?! Делалась свирепо-нежной.
Если бы не изнуряла Курнопая вина мужского безразличия, он укротил бы Киву Аву Чел щелчком в солнечное сплетение.
Но, покорствуя, Курнопай остерегался собственной безвыходной ярости, впервые взыгравшей в нем после антисонинового укола. В училище кто из курсантов не переносил щекотки, над теми развлекались до садизма. Притронутся к боку или шее, он сразу становится смешливо беззащитным. Кое-кто обмирал от настырных прикосновений, от него и тогда не отвязывались, и он незаметно кончался.