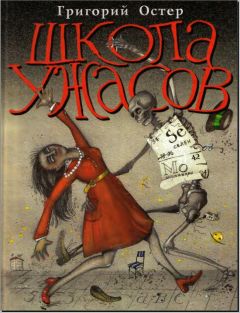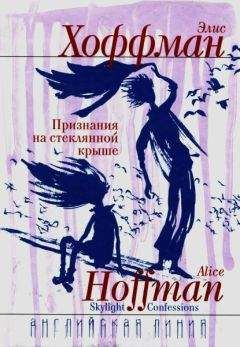Элис Хоффман - Паноптикум
Я стал следить за Блоком и вскоре изучил его обычный распорядок. Однажды я незаметно запрыгнул на задок его экипажа и проехал так по Бродвею, находясь всего в нескольких дюймах от Блока. Сердце мое стучало. Деревянные колеса экипажа попадали в выбоины на мостовой, но я крепко держался за медный поручень. Когда карета замедлила ход, я спрыгнул и быстро пошел прочь, так как боялся, что не удержусь и наброшусь на него. Блок присматривал за работой фабрик, принадлежащих его отцу, и был кроме того поверенным других фабрикантов. Он входил в совет нескольких благотворительных организаций и был известен как человек, умеющий мобилизовать капитал.
Как-то вечером, когда в особняке Блока шел прием по случаю строительства нового здания публичной библиотеки между Сороковой и Сорок первой улицами, я в очередной раз расположился напротив его дома. Здание библиотеки в стиле Боз-ар возводили на месте прежнего водоема площадью четыре акра, который был окружен стеной в египетском стиле высотой двадцать пять футов и брал воду из резервуара Кротон. Теперь в округе Уэстчестер был устроен новый резервуар, а огромная великолепная библиотека должна была стать одним из чудес Нью-Йорка и способствовать просвещению горожан. Прием был организован для сбора средств на строительство и проходил вне рамок обычной светской жизни, поскольку семейство Астор, предоставившее основную часть средств, вряд ли пригласило бы остальных спонсоров в свою гостиную. Они все-таки были евреями, хоть и богатыми.
Я проник в дом, сообщив пожилому швейцару Баркеру, что меня прислала «Трибьюн» фотографировать мероприятие. У меня была с собой камера и пропуск для прессы, и хотя они, в общем-то, ничего не значили, это произвело на швейцара впечатление. Шагая по шикарному синему с красным плюшевому китайскому ковру, я чувствовал себя воришкой. Полы в холле были из полированного черного и белого мрамора. Меня встретил еще один слуга – очевидно, нанятый на этот вечер, потому что раньше я его не видел, – и проводил мимо телефонной комнаты, облицованной золотистыми дубовыми панелями, в большой зал, который был залит мягким светом колоссальной люстры от Тиффани. Деревянная обшивка стен блестела, карнизы были украшены резными ангелами. В зале собралось все семейство, включая Блока-старшего, у которого когда-то работал мой отец. Глава семьи не покидал кресла – очевидно, из-за какой-то болезни. Я принялся устанавливать штатив. Я оказался не единственным, кто собирался снимать происходящее. Семья пригласила известного в обществе фотографа Джека Хейли, который имел доступ в дома манхэттенской элиты и держался так, словно принадлежал к ней. Мое присутствие его не обрадовало, и он без обиняков заявил мне, что хочет продать фотографии газетам, и предупредил меня, чтобы я не вздумал сделать то же самое.
– Да пошел ты! – отрезал я. – Занимайся своим делом, перецелуй их всех в задницу, если тебе нравится, а я сам буду решать, что мне делать, а что нет.
Мою реплику услышала стоявшая поблизости сестра Гарри, высокая изящная девушка с серьезными манерами. Она, нахмурившись, поглядела на меня, затем повернулась к брату и что-то прошептала ему. Он снисходительно похлопал ее по руке, успокаивая. Джулиет нельзя было назвать хорошенькой или красивой, но она была привлекательна. Когда ее не окружали ее глупые подружки, лицо ее принимало задумчивое выражение, в глазах светилась мысль. Она держалась особняком и отказывалась от шампанского, которое ей предлагали. Мне казалось, что она предпочла бы покинуть праздничную толпу и посидеть в одиночестве в каком-нибудь парке на скамейке под вязом и понаблюдать за тем, как темнота просачивается меж ветвей. Правда, на ней было навешено столько бриллиантов, что ее бы тут же ограбили.
Я сделал два «официальных» снимка, а затем еще один в тот момент, когда члены семьи перестали позировать и начали разбредаться в разные стороны. Джулиет, казалось, хотела поскорее убраться подальше. Единственным, кто смотрел на этой фотографии прямо в объектив, был Гарри Блок. Разглядывая эту фотографию теперь, я думаю, что он понимал, что фотография выявит всю его сущность. Как-то у меня даже мелькнула мысль, что я, возможно, украл не только его часы, но и душу.
Я быстро собрал свою аппаратуру и стал выбираться из толпы. Во мне кипела ненависть ко всем присутствующим, и, наверное, меня можно было назвать головорезом, если головорез – тот, кто приходит в гости без приглашения со злобными намерениями в сердце, а осуществляются они или нет – неважно. Странно, что такой неблагодарный сын, как я, так хотел отомстить людям этого круга за то, что они сделали с моим отцом. Я не мог забыть его пальцы, кровоточившие из-за работы на этих людей, и то, что они отняли у него его гордость.
В холле меня остановил Гарри Блок. Помещение имело форму слезинки, стены, окрашенные в переливчатый синий цвет, блестели. Мы стояли на огромном восточном ковре, сотканном за гроши рабочими, которые теряли на этой работе зрение из-за того, что им приходилось делать крошечные стежки на очень плотной ткани. Это было красивое изделие. Я его ненавидел.
– Эй, минуточку!
На плече у меня был штатив, который мог послужить неплохим оружием. Мозес Леви пришел бы в ужас, если бы видел, каким образом я хочу использовать оборудование, предназначенное для увековечивания красоты.
– Вы меня слышите? – крикнул Блок.
Я обернулся и посмотрел прямо в глаза моему врагу.
– Я не знаю вашего имени, – сказал он. – Мне сообщили только, что вы из газеты.
– Зато я знаю ваше имя, – произнес я ровным угрожающим тоном, с трудом узнавая собственный голос. – Гарри.
Он привык к тому, чтобы его называли мистер Блок, особенно прислуга, к которой он, несомненно, относил и меня. Он прищурился, изучая мое лицо и пытаясь вспомнить, кто я такой. Было видно, что он ничего не вспомнил. Я был для него незнакомцем.
Я вытащил из кармана часы и со щелчком открыл крышку.
– Мне пора двигать, – сказал я ему.
Если он не узнал меня, то часы-то узнал, это точно. Он смотрел на меня все так же недоуменно, но не попытался остановить, когда я покидал его дом. Я шел по темным улицам, меня душил гнев. Но кварталов через двадцать он испарился, оставив внутри лишь пустоту. Я вспомнил, как посуровело лицо отца в тот момент, когда я выложил перед ним на стол украденные часы. Он тогда так же не узнавал меня, как Гарри Блок теперь. С того момента я стал незнакомцем для своего отца и для себя самого. Я жалел о том, что взял эти проклятые часы, и хотел бы их вернуть. Но, нравится это кому-то или нет, часы теперь принадлежали мне и ежедневно напоминали мне, кем я стал.
Апрель 1911
ОДНИ ПОХОРОНЫ следовали за другими – и на кладбище Барона Хирша, и на Горе Сион, и на Эвергринз. Дожди размывали могилы, над которыми произносились молитвы. И мэр Нью-Йорка Гейнор, и губернатор Дикс отказались взять на себя ответственность за пожар и даже не посетили сгоревшую фабрику, а уж после этого ни у кого из администрации не было желания вступиться за людей, которые так жестоко пострадали. Красный Крест и Еврейское похоронное бюро помогали приобрести участок для захоронения и нанять катафалк тем семьям, которые не имели средств, чтобы похоронить девушек на утопающих в грязи кладбищах Стейтен-Айленда, Бруклина и Куинса. Сами девушки зарабатывали каких-то шесть-семь долларов за шестидесятичасовую рабочую неделю и не были в состоянии обеспечить собственные похороны. Городом по-прежнему управляли коррумпированные политики, несмотря на все усилия Франклина Делано Рузвельта, который в качестве члена легислатуры штата Нью-Йорк старался направить Демократическую партию на путь истинный.
Волны скорби прокатывались над морем черных зонтов. Эдди с камерой на плече, надвинув картуз на глаза, отыскивал себе место где-нибудь в стороне – за каменной оградой или под темно-пунцовым буком с толстыми ветвями, стараясь не привлекать к себе внимания и прикрывая камеру от дождя куском мягкой ткани. В воздухе пахло сиренью и влажной землей, сизое небо было обложено тучами, казалось, что они касаются земли.
Дождавшись конца очередной заупокойной молитвы, Эдди показывал сделанную автоматом фотографию всем, пришедшим на похороны. Большинство людей, к которым он обращался, глядели на него с подозрением и, погруженные в собственное горе, не сразу понимали, что ему от них надо. Он говорил с ними на английском и идиш, а также на ломаном русском, который смутно помнил с детства. «Простите, пожалуйста, за беспокойство, но эту девушку до сих пор не нашли после пожара. Может быть, вы знали ее? Вы не видели ее во время пожара? Или накануне? Или, может быть, совсем недавно?» Одна молодая женщина, горюющая о своей потере, с жаром бросила ему: «Ну, нашел, кому и когда задавать свои вопросы!» – и в гневе отошла. В другой раз родственники погибшей, заметив Эдди с его камерой, прогнали его, яростно защищая свое право спокойно похоронить близкого человека. Они стали бросать в него камни и назвали вампиром. Возможно, они были правы, но фотографии обезумевших от горя людей были лучшими из всех, какие он когда-либо делал. Он повесил их у себя в мезонине на свою стену плача, все пространство которой было теперь занято черно-белым отражением пострадавших душ, портретами неистовствующих и безмолвствующих, скорбящих бок о бок с теми, о ком они скорбели.