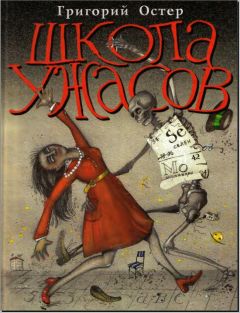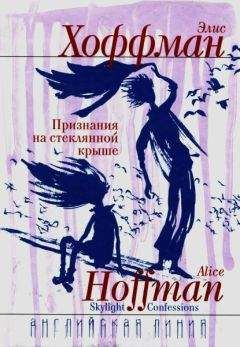Элис Хоффман - Паноптикум
Коралия не узнавала дороги, и они шли наугад. Если они найдут в траве большую голубую рыбу и окажется, что ей лишь привиделась девушка, это будет страшное унижение, думала Коралия. Но тут возница крикнул:
– Вон что-то лежит в ложбине!
Профессор поспешил вслед за возницей, а Коралия неохотно поплелась вслед за ними. Ее пугала не только мысль о том, что они найдут, но и причина, почему отец настоял на поисках. Возможно, наступил момент, когда пора уже было оказать сопротивление. Если бы у нее только хватило сил вырваться на свободу и взять свою судьбу в собственные руки! Среди листвы ей чудились Египет, Париж и прочие чудеса мира, ожидающие ее.
– Вот она! – воскликнул возница, указывая на какую-то синюю кучу среди темных папоротников и кустов ежевики.
Коралия почувствовала, будто ее что-то пронзило. Она верила в примету, о которой говорила Морин. Теперь она всегда будет привязана к этой утопленнице. Она хотела отвернуться, но не могла, она уже увидела то, что лежало перед ними.
Профессор снял черное пальто и накинул его на тело.
– Отнеси ее в коляску, – велел он вознице. – Наше сокровище.
– Нет уж, увольте! – ощетинился возница. – Я слишком много времени провел в тюрьме и возвращаться туда не имею желания.
– Ты сделаешь это или сядешь по несравненно более тяжкому обвинению! – сказал Профессор. Увидев угрюмое выражение возницы, он решил применить другую тактику: – Я заплачу вдвое больше обычного. Это облегчит тебе задачу.
Коралия вдруг заметила, что голова утопленницы покоится на подушке, устроенной из травы, а руки сложены крест-накрест на груди. Сама она не оставляла девушку в таком благостном положении, словно в ожидании перехода в мир иной. Она оглянулась на лес, думая увидеть того, кто это сделал, но вокруг были только лжеакации и заросли камыша, возвышавшегося почти на десять футов. Возница поднял тело на плечо. При этом руки девушки разжались, и на землю упали два каких-то черных камешка. Коралия подняла их и увидела, что это не камешки, а пуговицы из черного стекла, холодные, как речная вода.
Они пошли обратно той же дорогой, но теперь солнечные лучи уже проглядывали сквозь листву и все больше просыпающихся птиц заводили свою песнь. Шли молча, пока не добрались до экипажа. Профессор обнял Коралию с необычной для него нежностью.
– Ты нашла Загадку Гудзона! – объявил он.
Коралия побледнела.
– Но как это возможно, отец? Это же обыкновенная женщина.
– Пока. Но после того как я над ней поработаю, она станет необыкновенной.
Коралия подумала о детском скелетике, который она однажды видела на его рабочем столе и разложенных рядом хирургических инструментах, а также об уродцах в стеклянных банках, созданных не Творцом, а человеческими руками.
– Мы должны сами изготовить то, что нам требуется, у нас нет другого выхода, – сказал Профессор, заметив ее обеспокоенное выражение. – В реке Гудзон водилась русалка, взбудоражившая весь Нью-Йорк, а затем она погибла от холода, и наш долг сохранить ее в целости для потомков.
Возница положил тело девушки под скамейку коляски. На полу образовалась лужа, вокруг распространился навязчивый сырой запах мокрой зелени. Отец сел рядом с Коралией, но она отвернулась от него и смотрела в окно. Лошадь неторопливо повезла их лесной дорогой.
– Теперь у нас есть наше чудо, – удовлетворенно произнес Профессор.
Коралию захлестнуло возмущение, ее охватила сильнейшая неприязнь, почти ненависть к тому, чем занимается ее отец. Она больше не могла воспринимать его слова как божественное откровение. Что бы он ни совершил в прошлом и что бы ни собирался сделать в будущем, все секреты будут раскрыты, все «чудеса» разоблачены. Коралия была в этом уверена.
Четыре
Человек, который не чувствовал боли
Я СОБИРАЛСЯ продать часы, которые украл еще мальчишкой, и устроить похороны Мозеса Леви. Но часы, словно догадавшись о моем намерении, в тот самый день сломались. Я завел их, однако они отказывались идти. Пришлось их оставить и продать фотоаппарат, с которым я обучался мастерству, «Америкэн оптикал». От Мозеса мне досталось еще несколько фотоаппаратов, в том числе его старая крупноформатная деревянная камера-гармошка, воспроизводившая изображения на стеклянных пластинах 18 х 24, а также «Лейка» с дорогим объективом Петцваля, которая не разваливалась только потому, что была обмотана клейкой лентой. Я пользовался всеми этими фотоаппаратами как своими собственными. Любимым инструментом Мозеса была старая полуизносившаяся камера таких огромных размеров, что с ней трудно было ходить по городу. Можно подумать, что я продал самый лучший аппарат, но это не так. Мой учитель говорил, что фотоаппаратура обладает собственным зрением, и настаивал, что его камера видит всё в истинном свете и может заменить его, если он начнет слепнуть. Я надеялся, что она окажет эту услугу и мне, потому что я был слеп во многих отношениях.
Так, я был слеп в отношении плохого здоровья Леви и его возраста. Он говорил мне о приступах пневмонии и вызванной ею слабости, но продолжал работать с таким увлечением, что я забыл о его болезни и не обращал внимания на его затрудненное дыхание. Мы с ним часто ходили в Галерею 291, где Стиглиц демонстрировал фотографии и картины, которые завораживали зрителя и, казалось, воссоздавали какую-то иную далекую вселенную, настолько они были уникальны. Я был тогда лишь несмышленым учеником и, притулившись где-нибудь в уголке, слушал настоящих фотографов. Однажды Мозес подошел к Стиглицу и представился. Стиглиц, конечно, знал имя Мозеса Леви – правда, ходили слухи, что он умер, так как он давно уже не появлялся ни в мире искусства, ни в кругу своих соотечественников. Не исключено, что Леви предпочитал, чтобы так и думали, нежели прознали бы, что он зарабатывает на жизнь, фотографируя женихов и невест на свадьбах в Нижнем Ист-Сайде. Его самые ценные работы были уничтожены украинскими властями, которые считали, что художники-евреи по натуре непокорны, а потому опасны и являются в лучшем случае неблагонадежными людьми, а в худшем – дьявольским отродьем. Леви не мог не только говорить, но даже думать о пропавших трудах всей его жизни.
– Вот один из первых фотографов, – обратился Стиглиц к собравшимся, – один из отцов-основателей нашей профессии!
Но почти никто не обратил внимания на его слова. Лаврами гениев увенчивали более молодых художников вроде самого Стиглица, который быстро оставил Леви и переключился на своих поклонников. А работы Леви были сожжены и забыты, и он не вызывал интереса, хотя многие из изобретенных им методов были заимствованы этими молодыми гениями. Он был мастером амбротипии – техники, при которой фотограф может влиять на качество отпечатков, так что каждый из них не менее индивидуален, чем полотно живописца. Он первым использовал нитрат серебра и цианистый калий для подсветки изображения, что проложило дорогу тем, кто хотел сделать фотографию подлинным искусством. Он умел вирировать таким образом, что его фотографии приобретали золотистый оттенок. Молодые люди, собравшиеся для того, чтобы поговорить о самих себе, не догадывались, что именно Леви изобрел многие технические приемы, которыми они теперь ежедневно пользуются, – да это их и не интересовало. Я полагал, что так будет всегда, люди будут забывать о прошлом, как о давнем сне.
В студии Леви на стене висели две уцелевшие фотографии, сделанные им в лесах Украины. Деревья-гиганты с мощными стволами и ветвями, печально повисшими под гнетом жизненных невзгод, и певчие птицы, тонированные сепией. Этот лес очень напоминал мне место, где мы с отцом нашли пристанище, когда нашу деревню уничтожили. Я вывел его за руку из леса сквозь высокие травы и скопления диких астр, чтобы он не потерял себя и не отказывался от жизни, – он перестал ее ценить после того, как не стало моей матери. Мы скорбели молча, чтобы не проклинать мир, в котором обитали. Я видел сов на лжеакациях и думал, не являются ли они призраками умерших, потому что в наших краях было столько убитых, что их призракам уже не хватало места. Я и вправду наполовину верил, что из-за этого они превращаются в птиц.
Мозес Леви оставил мне фотопластинки с нитратом серебра, изображение на которых блестело. Я повесил их на стену в студии, изготовив для них рамки из необработанной сосны, – на лучшее у меня не было средств. Но эти фотографии во время скитаний Мозеса по миру содержались в недостаточно хороших условиях и потому с каждым днем все больше выцветали. Чтобы уберечь их от разрушительного действия солнечных лучей, я закрыл их белой тканью – наподобие того, как верующие закрывают зеркала в доме после смерти одного из членов семьи. Раньше я думал, что это делают для того, чтобы люди не любовались собой в такое время, но теперь мне казалось, что они не хотят видеть отчаяние в своих глазах. Иногда с наступлением вечера я снимал ткань и рассматривал дар, оставленный мне Мозесом. Деревья на фотографиях в сумерках окрашивались либо в желтоватый цвет, либо в красноватый, который окутывает Манхэттен после захода солнца. Стоя перед изображениями, отражающими все величие видения моего учителя, я вспоминал тот день, когда начал жизнь заново. Мне казалось, что теперь у меня появилась цель в жизни – улавливать красоту мира и, подобно учителю, увековечивать момент красоты.