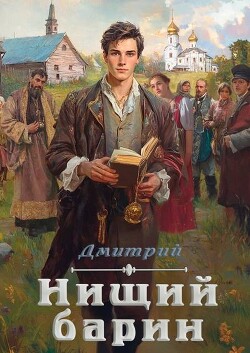Барин из провинции (СИ) - Иванов Дмитрий
— Не до музыки. Сами споём, если надо, — неприветливо буркнул Геннадий, наливая всем нам водочки. Да прилично так — грамм по сто.
Трактирщик закатил глаза, но не обиделся. Подумал, выждал и уже почти на выходе бросил через плечо:
— Тогда, может, подружку для общения? Барышня хорошая, тихая. Без глупостей. В разговоре смышленая.
На этот раз уже Миша, не отрывая взгляда от водки, согласился:
— А вот это… можно.
Трактирщик понимающе кивнул и исчез, оставив дверь приоткрытой. И вскоре в кабинет мягко, почти неслышно вошла девушка лет двадцати. Тёмные волосы собраны в гладкую косу, платье тёмно-синее, с кружевной накидкой — скромно, но со вкусом. Лицо ясное, простое, не сказать, чтоб писаная красавица, но с какой-то искоркой в глазах, свидетельствующей о живости характера.
— Добрый вечер, господа, — произнесла она негромко, с лёгким поклоном. — Зовут меня Лизавета. Просили составить вам компанию.
— Вот и славно, Лизавета, — отозвался Мишаня, подвигая ей табурет. — Садись поближе, мы тут не чужие.
Она присела, аккуратно расправив подол, и коротко кивнула в благодарность. Геннадий, не теряя времени, плеснул ей в рюмку, а Михаил поднял свою и торжественно объявил:
— За тёплый вечер и приятное общество!
— За вечер, — отозвалась Лиза, глядя Мише прямо в глаза, и выпила без лишней жеманности.
Закусили огурцом. Тишина повисла ненадолго, словно пауза перед скрипичным аккордом.
— Так ты, стало быть, здесь, в трактире. Певичка? — спросил я, покручивая в пальцах серебряную вилку.
— Иногда пою, коли просят, — ответила девица, едва заметно пожав плечами. — А иной раз просто сижу рядом. Не всякому, знаете ли, музыка по сердцу.
— А что тебе больше любо петь? — Михаил чуть наклонился к ней.
— По настроению, — мягко сказала она. — Могу и «Соловья» спеть, могу весёлую. А могу и вовсе молча сидеть. Люди разные приходят: кому послушать надо, кому — душу излить, а кому и просто тишины охота. Я не мешаю.
Она помолчала и добавила:
— Я до зимы тут. Долги отдам — и опять искать место кухарки, али какой иной прислуги буду. Я всё умею.
— Ты философ, Лизавета, — усмехнулся поручик. — Среди нас, скажем честно, редкое это дело.
— А вы? — она глянула на него с интересом. — О чём говорите, когда не шумите?
Михаил вздохнул.
— Когда не шумим… о службе. О потерянных днях. Порой — о лошадях, иной раз — о Париже. А чаще всего — ни о чём. Ну и, разумеется, о дамах.
— Значит, вам сейчас хорошо, — произнесла она просто. — Когда говорить не о чем, значит, и в голове — тишина, а на сердце — покой.
«А девочка-то не дура», — пронеслось у меня в голове. Я пригляделся к брюнетке внимательнее. И то, что сперва показалось простотой, обернулось своеобразным очарованием.
— И как же тут по деньгам выходит? — спросил я, быть может, не слишком тактично: нам ведь сразу сказали, что за пару часов — рубль серебром, если ничего особого не потребуем.
— Ежели песня аль игра какая, да ещё тосты — то три рубля, — спокойно ответила Лизавета, нисколько не смутившись. — А коли просто побеседовать, то рубль, аль два, если долго. Иных услуг я не оказываю. Хожу сюда через день… Вот и считайте. Но моих пятая часть всего. Рублей десять в месяц имею — мне хватает, да и маме помогаю.
— Пойдёшь в мой дом горничной? — выпалил я, прежде чем успел подумать, зачем вообще это предложил. — По деньгам не обижу: пятнадцать дам. Надо содержать дом, обеды готовить. Хозяйства у меня нет, огород небольшой. Да и уеду скоро в имение, а за домиком присмотр нужен.
— Ай да хват ты Лёшка! — заржал поручик, а корнет почему-то насупился. Молодой ещё и, наверное, всех женщин своими считает.
— Как это? Я ведь с маменькой живу! И девушка порядочная! — впервые в глазах Лизаветы мелькнула эмоция — искреннее удивление.
— Ты не думай, Лизок, — вступился Марьин, которому, видно, загорелось мне помочь. — У нас в полку денщик пятак в месяц получает — и доволен. А Лёшка по дурным бабам не бегает, стихи сочиняет… да и дом у него в два этажа, свой выезд.
— Комнату выделю, — продолжаю я соблазнять девицу. — Небольшую, но ваша с матушкой будет.
«Тимоху, если что, наверх переселю», — решил я про себя.
— Неожиданно, — закусила губу Лизавета, и на меня глянули два бездонных голубых озера, окружённые густым лесом пушистых ресниц. — Или ты, барин, чего плохое удумал?
— Уезжаю я в имение скоро, — ухмыльнулся я, — вернусь только к коронации. Так что если и задумал чего эдакое, то из Костромы провернуть мне это дельце будет тяжеловато. Одни вы с маменькой останетесь.
— Так и я из Костромы! — оживилась Лизавета. — Папенька мой по весне почил… Доходов его со службы больше нет, а в Костроме… ну, сами знаете, возможности небольшие.
— А кем служил папа? — интересуюсь я.
— Сначала в соляной конторе, сольным помощником, — сказала она с гордостью. — А последние годы в таможне нашей, регистратором. Дворянство вот выслужить не успел.
Глаза девушки потускнели, видно, папеньку-то она любила.
— Рубликов двести, а то и триста в год, значит, имели, — прикинул Марьин. — А долги-то откуда, Лизавета?
Странное дело… выпили мы уже пару стопок, да и с утра приложились, а поручик сидит свежий, будто только квасом балуется. Я покосился на его рюмку и подумал: «Не иначе трактирщик-каналья разбавляет водку».
Глава 27
Глава 27
Девушка замялась, потупилась, будто решала — сказать или промолчать. Но всё же заговорила, спокойно, но с накопленной горечью:
— Привыкли мы жить хорошо… А когда папенька помер, не смогли сразу иначе. Доходов не стало, а расходы остались. Сначала думали — отдадим понемножку, а как начали проценты считать, так совсем невмоготу стало. Ростовщик тот, знаете ли, человек добрый… пока платишь.
— Не хотелось на шею никому садиться, — продолжила она тихо. — Вот и пошла по подработкам. У трактирщика тут знакомая была, так и пристроилась. Но на совсем неприличные предложения я, конечно, не соглашалась.
При последних её словах поручик еле слышно хмыкнул, ведь и нынешний труд Лизаветы не больно-то приличен. А ну удумают чего пьяные дворяне с ней что сделать? Станут руки распускать, за косу хватать… Что она, бедная, противопоставит? Трактирщик точно не станет за девушку заступаться и ссориться с клиентами, а то ещё и штраф какой добавит.
Да и опыт пожившего, битого жизнью человека подсказывал мне — Лизавета чего‑то недоговаривает. Ну не бывает так, чтобы за какие‑то пару месяцев и запасы кончились, и долги выросли — да ещё, судя по её словам, нешуточные. Значит, была какая-то история, о которой она предпочла умолчать.
Впрочем, мы девушку не обидели. Напротив — я сверху ещё пятёрку ей накинул. Ассигнациями, конечно, ибо и так больше всех за вечер заплатил: Мишка внёс где‑то треть, а остальное — моё.
На белый свет мы выбрались уже, когда на улицах начали зажигать первые фонари. Так как Тимоху я предусмотрительно отослал в усадьбу караулить Сёму с Марфой, то, поймав извозчика, еду домой в одиночестве. Громыхая по мостовой, карета качала меня в такт моим вечерним думам.
Опять завтра это собрание клуба любителей словесности… Стихи кое-какие у меня в запасе есть — пара свежих строф про осенние листья и бренность бытия. Но если честно, душа к ним не лежит. И вообще — не вижу особого профита во всей этой поэтической возне. Ну да, знакомства нужные, приличное общество, возможность вхождения в круги. С кем-то выпить, с кем-то за руку поздороваться.
Вот с гусарами, кстати, хорошо вышло — весело, шумно, душевно. Только вот беда: ни один гусарский полк в Москве не квартируется. После коронации разъедутся кто куда.
— Барин, ты, что ли? — раздался знакомый голос Тимохи из-за калитки.
— Ага, я, — устало буркнул я. — Открывай, ноги гудят, будто я не в трактире сидел, а на ярмарке плясал.
— Евстигней Батюшкович с Марфой наверху. Я им не мешаю. Шумят иногда… Ну, ты понимаешь. Ужин тебе не готовил — ты ж с кабака.