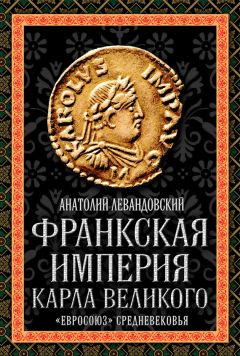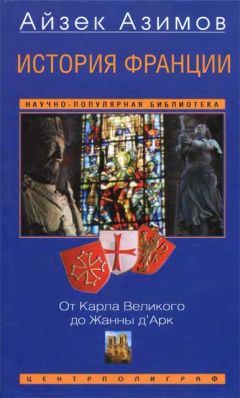Юрий Нестеренко - Приговор
когда она застала меня врасплох в комнате с черепами. Арбалет она на сей
раз закинула за спину, а в руке держала только жалкий обмылок,
оставшийся от врученного ей куска — но это мыло было потрачено не зря.
От лесной кикиморы не осталось и следа. Передо мной была юная
аристократка во всех смыслах этого слова, и то, что она была одета лишь
в просторную мужскую рубаху с подвернутыми рукавами, уже не могло
испортить ее очарования. Дело было не в том, что девочка оказалась
красивой. Красота бывает разной. Бывает красота безмозглой куклы. Бывает
— да, и у детей тоже, особенно у девочек — красота порочная, когда
сквозь вроде бы невинные еще черты проступает облик будущей развратницы
и обольстительницы. Бывает слащавая красота ангелочка, от которой за
милю разит либо фальшью, либо, опять-таки, глупостью.
Красота же Эвелины была красотой чистоты. Она не просто смыла с
себя физическую грязь — она была чистой во всех отношениях. И желание
любоваться ею было таким же чистым, как желание любоваться закатом,
прозрачным родником, прекрасным пейзажем или изящным, грациозным зверем.
Хищным зверем. Ибо чистота еще не означает травоядности.
О нет, на белокурого ангела она никак не походила. Уже хотя бы
потому, что ее отмытые волосы, обрамлявшие лишенное всякой ангельской
пухлости, заостренное книзу лицо, оказались хотя и вьющимися, но и
совершенно черными, под цвет глаз (что, впрочем, не редкость для
уроженцев этих мест). А в этих глазах явственно читались острый ум и
твердая воля. И огоньки, горевшие в них, казалось, жили собственной
жизнью, а не были лишь отражением пламени очага.
И, когда эти мысли промелькнули в моем мозгу, я вдруг понял, что у
ее затеи есть шанс на успех. Если эту прелестную девочку еще и приодеть
соответствующим образом, она вполне может подобраться к Карлу Лангедаргу
достаточно близко. Кто посмеет подумать о ней дурно? У кого поднимется
рука ее оттолкнуть? Особенно если она представится дочерью верного
грифонского вассала, павшего от рук проклятых йорлингистов, ныне
вынужденной обратиться за помощью к его светлости герцогу… А дальше -
есть много способов убить человека. В том числе и такие, которые по
силам двенадцатилетней девочке. Например, игла с ядом. Он, конечно,
будет в доспехах. С начала войны он никогда не появляется без них на
публике. Злые языки утверждают, что он даже спит в кольчуге, причем вне
зависимости от того, один он в постели или нет… Но если малолетняя
дочь верного вассала захочет верноподданнически поцеловать руку
сюзерена, он, конечно, протянет ей руку без перчатки. Этикет есть
этикет. К тому же кольчуга способна защитить от меча, но не от иглы… И
я знаю, как изготовить подходящий яд.
Но что потом? Как ей спастись? Смешно надеяться, что после его
смерти грифонцы тут же побросают оружие и побегут сдаваться, вместо
того, чтобы расправиться с убийцей. Можно сделать яд, который
подействует не сразу, но укол-то он почувствует. И, конечно же,
моментально поймет, что к чему. А если… если цветок? Какая красивая
сцена: черноволосая девочка в черном платье — траур по героически
погибшему отцу — дарит претенденту на престол белую розу — символ
императорской власти. А тут уже сразу две возможности. Во-первых, у розы
есть шипы. Но, допустим, он не настолько глуп и неосторожен, чтобы
уколоться. Но устоит ли он от искушения понюхать ароматный цветок? Или
хотя бы поставить в вазу в своем кабинете?
Может и устоять, однако. Кого-кого, а Карла Лангедарга трудно
заподозрить в сентиментальности — если только не понимать под таковой
страстную любовь к власти. И вряд ли он даже станет разыгрывать
сентиментальность на публике. Он явно считает, что образ жесткого и
решительного лидера куда лучше образа романтичного любителя цветов.
Конечно, розу он примет, но тут же передаст какому-нибудь слуге, и на
этом все кончится…
Черт побери, о чем я думаю? Я ведь только недавно размышлял, как бы
мне отговорить Эвьет от ее самоубийственной затеи, а теперь сам готов
послать ее на эту авантюру? Конечно, Лангедарг негодяй, кто спорит. Но
можно подумать, что Ришард Йорлинг намного лучше… и что мне вообще
есть дело до них обоих…
— Как наш заяц? — осведомилась Эвьет, подходя к столу. — И, кстати,
как я теперь выгляжу?
— Замечательно, — ответил я разом на оба вопроса, попутно заметив,
что второй был задан без всякого кокетства — ей действительно нужно было
удостовериться, что с "лесной кикиморой" покончено.
Эвелина плотоядно принюхалась и вонзила зубы в заячью лапку.
— Остыл уже, конечно, — сообщила она, прожевав первый кусок, — но
все равно вкусно. Знаешь, я этот запах аж из бани чувствовала.
— А… — вырвалось у меня, но я сразу замолчал.
— Что?
— Нет, ничего.
— Слушай, Дольф, я таких вещей ужасно не люблю. Раз начал, так уж
говори.
— Ну… я просто подумал… разве тебе… не неприятен такой запах?
— С чего вдруг? А, ты имеешь в виду… в тот день… Ну, видишь ли,
я отличаю одно от другого. Если я пережила пожар, что ж мне теперь, и у
костра не греться? И потом… — добавила она тихо, — горелое пахнет
иначе, чем жареное.
Она быстро управилась со своей порцией, воздав должное и моему
хлебу, и сделала было движение вытереть жирные пальцы о рубашку, но,
перехватив мой взгляд, смущенно улыбнулась и вымыла их в ведре с водой.
— Как твоя нога? — спросил я, кивнув на ее левую ступню. Та уже не
была перевязана, что я мог только приветствовать — от такой грязной
тряпки наверняка больше вреда, чем пользы.
— А, это? Уже зажила почти. Пустяки, это я на острый сучок
напоролась…
— Дай я посмотрю. Я кое-что смыслю во врачевании.
Эвьет без церемоний уселась на пол и протянула мне ногу. Я велел ей
повернуться ближе к свету и взял в руки ее маленькую ступню. Кожа на
подошве, конечно же, была загрубевшей, как у деревенской девки, но
изящная форма стопы свидетельствовала о породе. Ранка и впрямь оказалась
небольшой и уже фактически затянулась; опасности нагноения не было.
— Значит, ты умеешь лечить раны? — осведомилась она, снова ставя
ногу на пол.
— Более-менее. Ну и некоторые другие проблемы со здоровьем. Но я не
имею права называть себя врачом — я не учился в университете. Правда, в