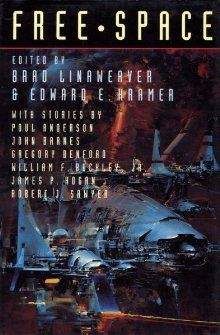Вадим Бабенко - Семмант
Прожив в Мадриде с самого детства, она, однако ж, плохо его знала. Я показывал ей город, открывал любимые свои места. Впрочем и Лидии тоже было, что предложить взамен. Чем удивить меня, а порой и ошеломить. Мне казалось, она делает это нарочно – сбрасывая вуаль, отодвигая штору. Предлагая свое прошлое грань за гранью. Примеривая его ко мне на свой манер.
Мир был пропитан ее парфюмом – сладким ядом Диора, насыщенным феромонами. Сущности испанской столицы служили очень твердой валютой. Фонтан Сибелиус и памятник Колумбу, стадион Бернабеу, Плаза Майор… Каждому месту приписывалась своя ценность. В обмене – на что? У Лидии словно был свой план. Была своя цель, были привычка, метод. Она как будто посматривала свысока – чувствуя свою принадлежность к превосходящим силам. А я и не скрывал, что живу в меньшинстве – в мире огромном, бесконечно ей чуждом.
На площади поэта Кеведо я узнал о ее бывшем муже, что был отнюдь не поэтом, а, напротив, скрягой и снобом. Лидия говорила о нем со смехом – в тон моему рассказу о проделках местных воришек, которых Кеведо, позабыв о рифмах, описал когда-то злым сатирическим пером. Муж Лидии, Антуан-Рауль, тоже представлялся мне нечистым на руку – проворовавшимся идальго с манжетами, истрепанными до бахромы. Я так и сказал ей, но она засмеялась: – О нет, он был богат. Богат и совершенно неутомим в любви…
Не дуйся, он не один такой, – предложила она сомнительное утешение, увидев мое кислое лицо. – И вообще, это быстро надоедает. Иногда я сбегала из дома и приходила лишь ночью. Ждала, пока он напьется и уснет!
Ее взгляд затуманился, а мне свело скулы. Хотелось раздеть ее прямо тут и обладать – грубо, властно. Но она успокоила меня, приласкала, как брошенное дитя. Глаза ее удовлетворенно сверкнули, на губах мелькнула знакомая полуулыбка. Люди сновали по площади, залитой светом, новые воришки шныряли в толпе. Сатирика Кеведо не помнил никто – равно как и поэта. Антуан-Рауля не стоило помнить тоже.
В центре старого города, месте празднеств и аутодафе, собиравших в средневековье рекордные количества зевак, я рассказал ей, как здесь когда-то сжигали ведьм.
Меня называли ведьмой, – усмехнулась Лидия в ответ. – И мать, и братья, и вся родня.
Быть может, тебя называли Гелой? – закинул я пробный камень.
Какое мерзкое имя, – она сморщилась и больно сжала мне кисть руки. – По-моему, ты спросил не зря. Это что, твоя бывшая пассия? Или служанка, которую ты тискаешь при случае?
Что-то задело ее не на шутку. Она была хороша – взволнована и беззащитна. Я знал, мне еще достанется за Гелу, но смотрел с восхищением, не отводя взгляда.
Моя мать сама была ведьмой, – сказала вдруг Лидия довольно зло. – Она пахла кошкой и спала одетая в ванной. У нее в волосах трещали искры – это нужно было слышать, поверь. Хоть никто не хотел, чтобы я об этом знала… А отец – обычный старый козел! – добавила она в сердцах.
Я стал целовать ее прямо на улице, и Лидия распалилась – еще сильней меня. Мы зашли в подъезд какого-то дома – позвонив по селектору в офис дантиста – и она отдалась мне на пожарной лестнице между пятым и шестым этажами.
Гела… – шепнул я, скрипнув зубами, в самую неудержимую секунду, но Лидия меня не расслышала. Она призналась после, что и вправду была сама не своя. Все ее внимание сосредоточилось на том, чтобы сдержать кошачьи крики. Лишь дантист, быть может, встрепенулся на знакомый звук – долетевший сквозь перекрытия и бетонные стены.
Так прошел почти весь март. Время летело, но ничто не менялось. Мы старались быть все счастливее, все безумней – и преуспевали в своем старании. Я принимал это как должное, как единственно правильный ход вещей.
Когда механизм дал сбой, я вовсе этого не заметил. А Лидия – мне кажется, она просто устала первой. Теперь-то я понимаю: она решила, что от нее требуют чересчур. Хотят слишком многого – того, что ей не по силам. А я, в ослеплении, ни о чем не подозревал.
Как-то, во время трехдневной фиесты, Мадрид почти опустел. Налетел сильный ветер с гор, мы шли ему навстречу по улице Сан-Херонимо и дальше – по древнему пути королевских кавалькад.
Все мои подруги легкомысленнее меня, – говорила мне Лидия, сжимая предплечье.
Это было неспроста – накануне у меня случился пароксизм ревности. Я метался в нервном припадке, кричал на нее в телефонную трубку, обвинял неизвестно в чем, довел до рыданий. И наутро, когда мы встретились за поздним завтраком, я все еще считал ее виноватой.
Все подруги похотливей меня, – говорила Лидия и поглядывала исподлобья. – Каждый новый мужчина для них – лишь удовольствие, не победа. Когда тобой движет похоть, ты не в силах ничем владеть!
Я подумал, что хорошо ее понимаю. Я искал доказательств, и пример пришел сам собой. Он был очевиден, лежал на поверхности. Мы просто-напросто шли его дорогой.
Я рассказал ей о самом похотливом из Габсбургов – на котором империя начала слабеть. Самом совестливом из Габсбургов, самом нерешительном и безвольном. Лидия слушала самозабвенно, он, Филипп IV, был ей чем-то близок. Мы с нею будто видели наяву конную свиту и его карету, трясущуюся по ухабам вдоль всей улицы Алкала – от Святого Херонима до парка Ретиро. Вот она – показывал я рукой – арена слабоумных королевских игр. Вот они, гектары увеселений, акры придурочного лицедейства. Вот он, пруд, где ему в угоду устраивались сражения целых парусных регат!
Когда я постарею, мне хотелось бы нянчить такого принца, – сказала Лидия с очень искренним вздохом. – Нерешительного, несчастного, сомневающегося во всем.
Я старался обратить все в шутку, но она продолжала, погрустнев: – Да, и чтобы солдатики вот здесь, у воды, на придуманном бутафорском плацу. И фокусники, и жонглеры, и целый балаган! Пусть он играет в настоящие игрушки – это интереснее настоящей жизни.
Я тогда понял: ей меня не хватает. Не хватает меня и власти надо мной. Почему-то, от этого у меня защипало глаза.
Еще я почувствовал, что родство наших душ достигло невероятной степени. Почувствовал и был неправ. Потом подумал: откровенность за откровенность – и в этом был неправ еще более.
Воздух был прозрачен, сух, все казалось простым и ясным. Ясность не таит подвоха – так полагают те, кто влюблен. Мне тоже казалось – в происходящем нет ни подвоха, ни намека на изъян. Я расслабился и размяк, стал делать ошибки, начав с одной. С одной, но серьезной, почти фатальной.
Глава 15
На другой день она пришла в белом платье, опоздав почти на час. Присмотревшись, я б мог отметить: с ней что-то произошло. Что-то сдвинулось на тончайший волос, нарушив шаткое равновесие. Но присматриваться мне казалось лишним, я лишь сделал ей комплимент. Похвалил ее платье, а потом – ее волосы, глаза, фигуру.