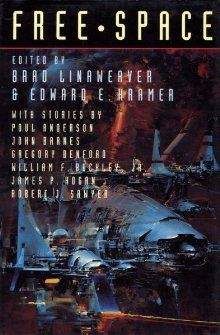Вадим Бабенко - Семмант
Ну да, – Лидия нарочито зевнула. – Если подумать, только думать лень.
Восемь красных креветок, – сказала она подошедшему официанту. – И пожалуйста, проследите, чтобы они были прожарены, а не сыроваты!
Мы помолчали, не глядя друг на друга. Вскоре принесли креветок, явно передержанных на гриле. Они лежали, как бессильные жертвы. В них не осталось ни жидкости, пахнущей морем, ни намека на жизнь, на вечный смысл. Я подумал, что Felipe пришлось бы несладко, попади он в детстве к ней в руки.
Ваши боги, – сказал я ей тогда, – неспособны ответить про то, что будет после. Неспособны или не желают – и каждый разбирается сам.
Лидия не поднимала на меня головы. Она орудовала ножом и вилкой – сосредоточенно и скрупулезно. Задача была непроста: съедобная плоть и жесткий хитин срослись накрепко, навсегда.
Ваши боги, – повторил я, – вообще бесчувственны и бессильны.
Мне было обидно и хотелось мстить. Хотелось оскорбить ее, если уж на то пошло. Она почувствовала это и глянула исподлобья. Глянула, промолчала и отвернулась.
Сука! – подумал я, желая ее, как никогда прежде. – Красивая сука, самка, тварь!
Было видно: мы у опасной грани. Взаимное старание сходит на нет. Мне вдруг вовсе расхотелось стараться – быть каким угодно, пусть даже счастливейшим из смертных.
Мой друг очень хотел знать, что же бывает после, – сказал я холодно и глотнул вина. – Настолько хотел, что кололся всякой дрянью. Теперь знает, наверное. Его звали Энтони, и суть не в дряни, суть в том, что именно суть-то от нас и скрыта.
Переход к небытию мне не совсем понятен, – продолжал я, глядя ей в лицо. – Пусть почти всех ждет обыкновенный конец – то, что у вас считается физической смертью. Почти всех, но не всех. И нас тоже – не всех. И, думаю, не только нас. А ваши боги молчат.
Молчали боги, молчала Лидия. Я же злился все сильней и сильней.
Из избранных, мой любимейший – Леонардо, – усмехнулся я, сверля ее взглядом. – У меня с ним постоянная астральная связь. Лучшая картина в мире чувствует себя неплохо, говорю я ему, побывав в Лувре. И спрашиваю порой – ну как там наши?
Лидия покрутила пальцем у виска. Я увидел растерянность у нее в лице – что-то будто ускользало из ее рук. Ускользало и уносилось в космос.
Ага! – воскликнул я обличительно. – Именно так я и думал! Всем привычней считать, что мир трехмерен. Потому-то: власть большинства есть иллюзия и химера. Да, я знаю, химеры прячутся по углам. По углам и за шторами, но от них можно скрыться – там, куда немногие решаются заглянуть. Не решаются и остаются здесь – в утлой заводи, в самом мелком болотце… Ха-ха-ха! Они не знают стихий, штормов. Закрывают глаза и зажимают уши. Им даже нельзя рассказывать о Семманте!
Лживость порыва, смехотворный его масштаб. Шарики пудры, рассыпанные по полу. Малость и слабость, неспособность создать что-либо – о, как безжалостно я обличал все и всех! Лидия украдкой оглядывалась по сторонам. Табачный дым витал под потолком, как еще один радужный змей. Только радуги в нем было – ни на грош.
Не смотри на них, они жрут и пьют, и слышат только себя! – хотел я крикнуть ей во весь голос, сам перемазанный устричным соком. Я жрал и пил вино, и слышал только себя. Толку от слов не было никакого – это знали все, говорившие до меня о том же. Знал я сам, ничтожный болтун, и Ди Вильгельбаум, и Малышка Соня. Знали даже и те, кто никогда не размышлял об этом. Лидия, например – она теперь смотрела в упор, и мне не нравился ее взгляд. И еще пара за соседним столом – мелкие, ничтожнейшие людишки!
Взять даже любовь… – начал я, но она меня перебила. А соседи, мне показалось, еще более навострили уши.
Ты всегда хочешь все разрушить? – спросила Лидия хриплым голосом. – Тебе плохо, когда все хорошо?
Может, ты хочешь разрушить мир? – добавила она еще. – Боюсь, у тебя не хватит сил.
Я начал было отрицать и клясться, но вдруг затих и съежился под ее взглядом. Позабытая тень пронеслась наискосок через зал. Я понял, что она ее видит тоже. Разрушительный импульс, пережитый в юности, послал привет из дальней мглы. Мне хотелось сказать, что и это иллюзия, не больше, но слова вдруг исчезли, я лишь тряс головой. Отгонял наваждение, от нее, не от себя, чувствуя в растерянности – с ним не сладить.
Потом мы ушли, она была холодна. Задумчива, отстранена, молчалива. Еще была надежда, что не я тому виной. Что она вновь думает о слабоумном принце, о мечте, которой не суждено сбыться.
Мы расстались у ее парадного, Лидия сослалась на какие-то дела. Я хотел успокоить ее, рассказать о чем-то веселом. Например, о фокуснике Симоне – но нет, она не желала слушать.
Я встревожился по-настоящему на другое утро. Телефон Лидии был отключен, электронный мессенджер не подавал признаков жизни. Я названивал и названивал, не желая сдаваться. Написал ей несколько писем, последнее – в недоумевающе-оскорбленном тоне. И уже знал при этом: все очень плохо.
Через пару дней мои нервы сдали. Я метался, не находя себе места, корил себя, ругал, ненавидел. Было ясно, всему виной моя злополучная речь в субботу – но нельзя же, нельзя принимать ее всерьез! Неужели, думал я, мы столь беспечны, глупы, небрежны?
Мысль о том, что все может рухнуть – глупо, бесславно, в один миг – была невыносима. Неужели так легко не простить – почти ни за что? Город февраля, залитый мартовским солнцем, грубо ухмылялся мне в лицо. Я не выходил на улицу, бродил по комнатам, растерян и жалок. Выискивал оправдания – себе и Лидии, ее молчанию, жестокой позе. Я не знал, что сделать, что предпринять – а потом решился, более не стыдясь: подкараулил ее у дома, в чахлом сквере у подъезда, на виду у консьержа.
Голова кружилась, и асфальт уходил из-под ног. Ничего, – говорил я себе, – ничего, терпи. Может, что-то случилось, может она больна? Или вдруг – авария, госпиталь, неподвижность? Вот и правильное решение – сначала ждать здесь. Потом звонить в дверь, опрашивать соседей, поднимать тревогу…
Нет, нет, я конечно знал: все куда проще. Она в полном порядке и не желает меня видеть. Просто я оступился – и вот лечу; под моим канатом нет страховочной сетки. Публика безжалостна – то есть, безжалостна Лидия, и мир беспощаден, он не слышит мольб. Но я все равно умолял, просил – как еще недавно молил о любви. Пусть, пусть она появится наконец, пусть говорит со мной, хоть недолго.
Я хотел объясниться – нагромоздить на лишние фразы новые ворохи ненужных фраз. У меня в мозгу вызревали сотни формулировок. Целые концепции рождались там – они сделали бы честь не самым худшим из философов.
Я хотел рассказать ей о стихиях воззрений, не поддающихся ни предсказанию, ни расчету. Об их жизни и смерти, об импульсе разрушения, что приходит и отступает, возрождается и пропадает вновь. От него не избавиться, ибо каждый – и ленив, и нетерпелив, и слаб. Как бы я ни бежал протеста, протест рождается, и его не скроешь. Как бы я ни старался быть терпимым и кротким, импульс разрушения тычет кругом стальной тростью. Он выискивает стереотипы и бьет наотмашь – не во все, лишь в самые вопиющие из них. Лишь в те, от которых совсем уж тошно. Ведь в целом я не злобен, нет-нет, я не…