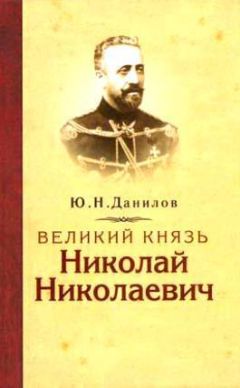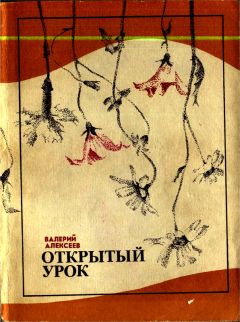Валерий Алексеев - Кот – золотой хвост
После работы Николай Николаевич побрел, не замечая дороги, домой, и только внезапный холодный ливень привел его в чувство.
Он встал посреди коричневой лужи и, погрозив кулаком небу, громко сказал:
– Всё равно! Я буду бороться! Пусть инстинкты, мне всё равно! Вот.
Люди молча обходили его с двух сторон, не осуждая и не одобряя: не всегда полезно вникать в то, о чем кричат на улицах.
9
Кот серьезно выслушал Николая Николаевича, с трогательной деликатностью отворачиваясь, когда хозяин начинал плакать.
Плакать Николай Николаевич принимался дважды: первый раз – когда про Уайльда, и второй – когда про „за что“. Вроде бы в комнате никого не было, и в то же время его слушали с сочувствием, это располагало к слезам.
О сиреневых трусиках бедный борец предпочел умолчать.
Ему было интересно, что Степан Васильевич, скажет, но рыжий гость не спешил выносить резюме.
– Ну, судьба, значит, что я к тебе пристал, – только и заметил он.
– А что такое? – встрепенулся Николай Николаевич.
– Да уж то… – уклончиво ответил кот. – Со мной всё веселее…
До полуночи они промолчали.
В двенадцать часов ночи Николай Николаевич по привычке обошел все помещения: кухню, ванную и туалет. Не то чтобы он боялся темноты: пустоты он боялся, это было бы точнее. Слишком много было в квартире места для одного. Раз пять или шесть проверил газовые краны: справлял вечерний ритуал одинокого человека.
Кот по-прежнему лежал на диване, то прижмуривая, то открывая глаза. Николай Николаевич постелил ему чистую простыню, взбил подушку, стал укладываться сам.
От одеяла Степан Васильевич отказался. Он, кряхтя, переполз на подушку и лег на нее пузом, вольготно раскинув хвост.
– Был когда-то искус такой старинный… – задумчиво проговорил кот, когда Николай Николаевич постелил себе на полу и улегся. – Вот, скажем, идешь ты к себе на службу, и стоят поперек дороги три кипящих котла. В первый кинешься – большим человеком станешь, во второй – красавцем писаным, в третий – умным и ученым.
– Я бы во второй, – не задумываясь, сказал Николай Николаевич.
– Вона что, – скучным голосом промолвил кот.
– А что такого? – Николай Николаевич зашевелился на своей постели, оживившись. – Большим человеком – силенок не хватит, ума и своего мне девать некуда, а красота никогда не помешает.
– С красоты, брат Коля, дуреют, – наставительно сказал кот. – Глупое это дело – красота. Мужику такая забота вовсе не положена.
– А во все три нельзя? – подумав, спросил Николай Николаевич.
– Ишь чего захотел, – хмыкнул кот. – Вкрутую сваришься.
– Ну, тогда всё равно во второй, – упрямо сказал Николай Николаевич. – Умному человеку красота только на пользу идет. Ну что вот я? Мешок с костями. Сколько нервов на это истрачено.
– Так-то оно так… – сказал кот. – Только рассуди не спеша, раз ты умным себя считаешь. Плюхнешься ты в это дело, вылезешь – морда толстая, щеки румяные, брови соболиные, волос вьющий. Что народ-то скажет? Срамота. А в паспортном столе как будешь объясняться?
– А при чем здесь паспортный стол? – удивился Николай Николаевич.
– Очень даже при чем, – возразил кот. – В сказках про это не сказывается, но хлопот с документами очень много было в те времена. Кушает старичок молодильное яблочко, шамкает ртом безобразным – и не думает, что дети родные признавать его вторую молодость не обязательно захотят.
Похоже было, что рыжий кот еще многое готов про эти дела рассказать, но хозяин слушал его невнимательно.
– Ты, Степан Васильевич, тоже меня пойми, – Николай Николаевич в возбуждении сел на подушку. – Скажем, я готов за идею свою жизнь отдать. А велика ли эта жертва, подумай. Скажут: эка важность. Неустроенный был человек и себя не любил. Со скуки на это дело решился. От такой пустяковой жертвы и на идею мою падает какой-то нездоровый свет. А вот будь я устроен, да красив, да любим – кое-кого эта жертва заставила бы задуматься. Много на земле еще большой черной работы, целые горы навалены, а берутся за нее только такие, как я, неудачники-одиночки. Остальным всё свершений хочется Я по одноклассникам своим сужу: кто меха из природного газа делать подался, кто нейтрино ловить, кто искать кимберлитовые трубки. А работу черную все стороной обходят, только после личного краха на нее идут – без особого, конечно, воодушевления.
– Молодой ты еще, – пробормотал Степан Васильевич, подумав. – Сам с собой споришь, сам себя и оспариваешь. Я устроенных в жизни много видал. Неохотно они жизнью своей жертвуют. Обижаются очень при этом. „С какой, – говорят, – стати? А почему, – говорят, – обязательно мы? Да и вообще, должен ли кто-нибудь? А если должен, то кому именно?“ Вот такие рассуждения в ход идут, брат мой Коля.
– Сказанное ко мне не относится, – запальчиво сказал Николай Николаевич и лег.
– Ох, красиво поёшь. – проворчал кот.
Тут в горле у него захрипело, он вспыхнул зелеными глазами – и умолк.
– Ты что, Степан Васильевич, поперхнулся? – спросил Николай Николаевич, привстав.
Кот не ответил. Он долго возился в углу дивана, пристраиваясь, и вздыхал.
Не дождавшись ответа, Николай Николаевич прошлепал босиком к выключателю и погасил свет.
10
Проснулся библиотекарь оттого, что над его ухом мяукнули. На службу было ему к одиннадцати, часы показывали десять.
– Брысь! – пробурчал он спросонок, когда над лицом его склонилась кошачья морда с пышными генеральскими бакенбардами.
Степан Васильевич не обиделся.
– Брысь так брысь, – добродушно сказал он, – этим нас удивить невозможно. И не такое слыхивали. Я спросить хотел: может, тебе пора? Мы вчера не сговорились, когда вставать.
– Пора, Степан Васильевич, – с чувством отозвался библиотекарь.
Он уже забыл, когда о нем в последний раз заботились.
– Остеречь тебя хочу, – сказал кот, когда Николай Николаевич, прыгая на одной ноге, стал натягивать брюки. – Ты не говорил бы никому, что я у тебя живу.
– Что так? – огорчился Николай Николаевич.
Никому особенно, но напарнице своей Анечке он как раз собирался намекнуть о коте. Человек она была безобидный и должна была Стёпе понравиться.
– Да уж так, – скучным голосом ответил кот и тяжело вспрыгнул на свой диван. – В цирк меня заберут, вот и вся недолга. Очень во мне нуждаются в цирке. Видел я там одного говорящего кота. Прохиндей, каких мало. „Папа“ говорит, „мама“… Ну я ему показал „маму“. Навсегда дара речи лишился.
– Ты и драться умеешь?
– Драться – это зачем, – степенно ответил кот и лег животом на подушку. – Указал я ему, как надо вести себя, раз животное. Молодой еще, непонятливый.
– А сам-то в цирке выступал?
– Было, – нехотя сказал кот. – Даром нигде не кормят.
– Ну, это ты зря, – недовольно возразил Николай Николаевич.
Он всё принимал как личный намек.
– Зря не зря – там видно будет, – уклончиво сказал Степан Васильевич.
– Что же ты делал на арене цирка? – спросил Николай Николаевич, желая уйти от неприятной темы.
– Фокусы различные показывал, – промолвил кот и отвернулся. – До пяти считал… Грехи наши тяжкие.
– Ну и как, срывал аплодисменты?
Кот ничего не ответил.
Николаю Николаевичу стало стыдно за свою глупую шутку.
Одевшись, он заправил кофеварку, сварил себе кофе, сел за стол.
– Я бы тоже кофейку выпил, – сухо заметил кот, внимательно наблюдавший с подушки за его действиями.
– Ох, извини, – спохватился Николай Николаевич.
Он поспешно достал чистое блюдце, отплеснул туда полстакана, отнес на диван.
Кот покашлял, подвинулся к блюдцу, лакнул.
– Вот, небось, думаешь, привалило хлопот? – проговорил он, откинувшись на бок.
– Знаешь что, Степан Васильевич, – с чувством ответил Николай Николаевич. – Или давай закроем эту тему, или… Я один, понимаешь? Один. Никого у меня, кроме тебя, нету.
Кот неторопливо лакнул еще раз и, поставив уши торчком, задумался.
11
На работе Николая Николаевича ждали крупные неприятности.
Для начала его перебрасывали на абонемент. Анечка первая сказала ему об этом и сама, добрая душа, чуть не заплакала: на абонементе и книги не те, и читатель скуднее. Там проблемы с невозвратчиками, а у Николая Николаевича доброе сердце, это всем было известно. Его буквально бросали под пули, дьявольски тонкий расчет.
– Убирают понемногу, – сгорбясь, Николай Николаевич сел за контрольный стол.
Анечка глядела на него сострадающе. Была она маленькая, чернявая, один глаз у нее немного косил, а когда она волновалась, косил сильнее.
Николаю Николаевичу было тяжело на нее смотреть, и он презирал себя за это, так как знал, что Анечка из-за него мучается.
Здесь было больше чем сострадание, здесь было наворочено столько комплексов, что мороз драл по коже.