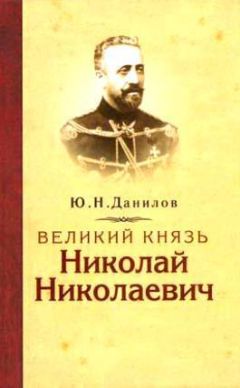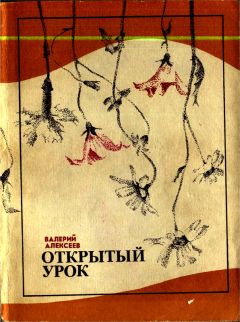Валерий Алексеев - Кот – золотой хвост
Калерия же Ивановна крыла цифрой: за месяц существования открытого доступа в его чистом варианте пропало одиннадцать книг, из двадцати пяти вырваны страницы, на двадцати появились „ненужные надписи“.
Николай Николаевич вновь упирал на воспитательный аспект:
– Вера в человека облагораживает его.
Калерия Ивановна возражала:
– Вера без контроля – попустительство низменным инстинктам.
Николай Николаевич обвинял ее в использовании западнических, буржуазных методов ведения дискуссии:
– Мы не против контроля, мы и за контроль тоже.
Калерия Ивановна отвечала:
– Контроль – это увеличение штатов, нам втроем не уследить.
Николай Николаевич предлагал:
– Сломать перегородки, переставить стеллажи, чтобы всё пространство просматривалось из-за контрольного стола. Сквозняк будет – ничего, перетерпим.
Калерия Ивановна возражала:
– Кто даст деньги на этот сквозняк?
Николай Николаевич обвинял:
– Вы рутинерша.
Калерия Ивановна утверждала:
– А вы прожектер.
Николай Николаевич:
– А как же у других?
– Калерия Ивановна:
– Не знаю. Скорее всего так же, как и у нас.
Николай Николаевич:
– Не верю.
Калерия Ивановна:
– Плохо знаете жизнь.
8
И тут (как раз вчера имел место их очередной титанический спор) сама судьба пришла Николаю Николаевичу на помощь: он услышал милые шаги за спиной и милый голос, произнесший:
– Мне что-нибудь Уайльда, если можно…
От этого голоса Николай Николаевич втянул голову в плечи, захлопнул рот ладонью и, нахохлясь, притих. Даже глаза его остановились: это была она, его дивная фея.
По виду старшеклассница, но ходит не в форме. А может быть, и студентка. Красива ли? Да разве ему об этом судить? Темно-синее узкое платье на ней, всегда одно и то же, немного коротковатое, по мнению Николая Николаевича. Никаких украшений, только белый капроновый шарфик на шее. Берет обычно „Юность“, учебник же приносит с собой. Вообще-то это не разрешается, но Николай Николаевич, когда он на контроле, смотрит сквозь пальцы.
Как только фея появляется, взгляд Николая Николаевича стекленеет, щеки покрываются красно-белыми пятнами, руки начинают дрожать.
Калерия Ивановна давно уже это заметила (заведующие вообще очень наблюдательны), но пока что молчит.
Между прочим, у феи есть мальчик. Впрочем, фея никогда не приходила одновременно с ним: стеснялась, и это очень нравилось Николаю Николаевичу. Подсаживаться к нему за один стол она тоже не решалась. Поэтому она всегда приходила первая, занимала маленький угловой столик, который, к сожалению, был плохо виден из-за двери, зажигала настольную лампу, и через пятнадцать минут появлялся он.
В руках у него был обычно блокнот, он ничего не заказывал и, небрежно поздоровавшись с Николаем Николаевич, входил в зал.
Он шел к ее столу, покачивая плечами, узкие бёдра его были обтянуты джинсами, светлые волосы пострижены ежиком. Толстые щеки, красные губы, пуговкой нос – и глаза немного свинячьи, но только чуть-чуть. Любое, даже самое красивое, лицо можно так описать, что оно покажется безобразным.
Николай Николаевич не ревновал: ревность – это предъявление прав, а какие права были у него, мрачного мохнатого сверчка, забившегося в угол на контроле? Для дивной феи он был сверчок на контроле, не больше, это нетрудно понять.
Николаю Николаевичу даже нравилось, что у феи есть мальчик: это бросало на ее банальное, в общем-то, личико тень недоступности, отчужденности – может быть, только в его глазах. „Уайльда, – с нежностью и болью подумал Николай Николаевич, еле сдерживая стук сердца под толстой рабочей курткой. – Птичка моя, сказка моя сероглазая…“ Но не сказал ничего, только ниже нагнулся над контрольным столом (сверчок, старый лохматый сверчок) и пристально посмотрел на Калерию Ивановну: „Вот вам случай,как быть?“ – Что именно Уайльда вы желали бы? – сухо спросила Калерия Ивановна. – Какое произведение вас интересует?
– Не знаю, – закраснелась дивная фея.
– Ну, знаете ли, – возмущенно сказала Калерия Ивановна, – не могу же я притащить сюда всё, что у нас есть из этого автора.
– Да? – переспросила девушка. – Извините…
И Николай Николаевич понял: сейчас – или уже никогда.
– Подождите! – самозабвенно воскликнул он. – Есть выход.
Калерия Ивановна грозно на него посмотрела.
– Посмотрите и выберите сами.
Он протянул фее ключ и засмеялся неожиданным смехом.
Смех прозвучал странно, и обе женщины, старая и молодая, увзглянули на него с удивлением.
А смеялся Николай Николаевич над собой, чудаком. Видите ли, он хотел еще добавить: „А если вам понадобится доброжелательный консультант…“ – но это было слишком, так много сразу.
Нельзя зарываться, нельзя искушать судьбу.
– Вот, – показал он рукой, когда фея, потупясь, ушла. – Вот разница в наших подходах.
– Безответственно, – убежденно сказала Калерия Ивановна. – Она там всё переставит.
– Уверен, что нет. Доверие должно окрылять.
Говоря эти слова, Николай Николаевич был по-настоящему счастлив: может быть, первый раз в жизни он почувствовал себя победителем.
Любовь, борьба, торжество дела жизни – пусть непрочное, пусть временное, но всё же торжество! – всё слилось в этом крохотном эпизоде. Ради таких мгновений стоило жить и страдать.
– Ответьте мне наконец, – вдохновенно сказал он заведующей, – читатель для библиотеки или библиотека для читателя?
– Читатель для библиотеки, – не колеблясь, сказала Калерия Ивановна.
– Вот как! – саркастически отозвался Николай Николаевич.
– Да, читатель для библиотеки, – повторила заведующая. – Есть сумма накопленных знаний, и мы эту сумму храним. Она существует независимо от того, будут эту сумму пускать в массовый оборот или нет.
– Вот! – закричал Николай Николаевич так громко, что в зале некоторые читатели даже привстали с мест. – Вот ваш идеал: библиотека, в которую никто не ходит. Книгохранилище с замурованным входом.
– Минуту! – Калерия Ивановна прислушалась, встала, на цыпочках подошла к двери в комнату со стеллажами, взглянула, лицо ее осветилось.
– Идите-ка сюда, – позвала она больше лицом, чем голосом, и улыбнулась.
Николай Николаевич встал, поправил волосы, дернул шеей. Подошел.
– Вот вам „доверие окрыляет“.
В глубине комнаты, между темными стеллажами на фоне светлого окна стояли обнявшись дивная фея и её мальчик. Как и когда этот свин ухитрился туда проскользнуть – оставалось загадкой. Собственно, обнимала лишь фея: руки мальчика были заняты совсем иными делами. Коротенькое феино платьишко было задрано чуть ли не по пояс, виднелись сиреневые трусы.
Всё поплыло у Николая Николаевича в глазах, от головокружения он вынужден был ухватиться за косяк.
– Ну? – торжествующе спросила Калерия Ивановна.
Николай Николаевич повернулся и поплелся к своему месту.
Триумфатор вновь превратился в сверчка, но сверчка раздавленного, больного.
Как это часто после сильных потрясений случается, у Николая Николаевича остро схватило живот.
– Простите, молодые люди, – ласково сказала Калерия Ивановна.
В глубине комнаты – движение. Посыпались с полок книги.
– Еще раз прошу прощения, что помешала вашим неотложным делам, – сказала эта старая язва и с достоинством возвратилась к столу.
Николай Николаевич сидел, углубившись в чтение журнала. Большие уши его были напряжены: вот ребята ставят книги на место, поспешно, не глядя друг на друга.
Вот фея что-то тихо сказала, парень шепотом выругался: „Ч-черт!“ Выходят вместе, вышли…
Запирают дверь.
Запирают открытый доступ.
Запирают навек.
– Спасибо, – прохрюкал над ухом у Николая Николаевича клятый свин.
Холодно звякнул о стекло стола ключ. „За что?“ – вскрикнул маленький Николай Николаевич внутри большого мохнатого сверчка. Он хотел им добра, он всем хотел добра. Он никому не хотел зла, за что?
– Пожалуйста, – Калерия Ивановна была воспитанным человеком, она только проводила взглядом мальчика, не сказав больше ничего, и Николай Николаевич был ей за это благодарен.
Он знал, что дело его жизни загублено, быть может, на долгие годы.
Он знал, что теперь ему припомнят и пронесенные в зал книги, и пропавшие учебники.
Он знал, что за ним теперь будут следить, как никогда: придется отказаться и от выноса „на ночь“ толстых журналов, и от многих других тихих радостей книжной жизни.
Но чего стоило всё это знание по сравнению с другим знанием, полученным им пять минут назад? О святые инстинкты, о извечный первородный грех…
Весь день и весь вечер у Николая Николаевича шипело в желудке. Он горбился над столом, смотрел в журнал сквозь двойные очки слез, почти не видя ничего перед собой…