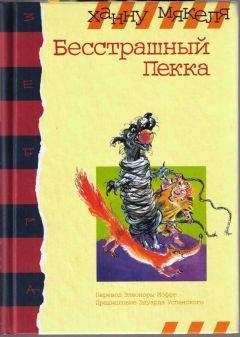Иные - Яковлева Александра
— Люба. — Он угрожающе подался вперед, до боли сжал ее запястье своей волосатой лапищей. — Не заставляй меня делать то, что я не хочу. Я попросил тебя по-человечески.
Любовь Владимировна с тревогой оглянулась, но помочь ей было некому. Где-то в спальне Москвитин гремел ящиками, будто проводил обыск. Вера притихла — казалось, она прислушивается к разговору на кухне.
— Ничего не выйдет, потому что она не захочет этого, — тихо возразила Любовь Владимировна. Это был ее последний и самый важный довод — но и его оказалось недостаточно. Упрямый Петров растянул губы в улыбке, больше похожей на оскал.
— Любонька, — сказал он ласково, — не юли. Мы оба знаем, что это не помеха. Ты же профессионал, кандидатскую по гипнозу защищала. Я наводил справки.
Любовь Владимировна горько усмехнулась. Требовать невозможного, угрожать, запугивать, притом совершенно не разбираясь в предмете, — в таких делах Петрову не было равных. Человек, что называется, на своем месте.
— Хорошо, — кивнула она. — Будь по-твоему. Но если не получится — ты оставишь меня в покое. Мне нужна полная тишина.
— Сделаем, все сделаем, — закивал обрадованный Петров.
Он хотел снова взяться за ручки, чтобы отвезти Любовь Владимировну к Вере, но та остановила его жестом. Развернувшись на колесах, сама перевалила через порожек, покатила по скрипучему паркету в зал, где осталась Вера.
— Москвитин! — распоряжался вдогонку Петров. — Ша там! Притихни пока!
Разворачиваясь в коридоре, Любовь Владимировна разминулась с Москвитиным. Он как раз вынес из комнаты полную коробку какого-то барахла. Приглядевшись, Любовь Владимировна увидела фотографии Веры и Вани в рамках, те самые карты и записи с трюмо, набор подарочных рюмок в коробке, электробритву, военную форму… Похоже, Петров и впрямь не рассчитывал на отказ. Он уже начал действовать.
Вера сидела в той же позе, привалившись к пустому теперь трюмо, но больше не плакала, только смотрела перед собой, не замечая никого. Петров склонился над ней, осторожно подхватил под лопатки и коленки, поднял и перенес на софу. Та даже не скрипнула, будто Вера ничего не весила — бесплотный дух, пустая оболочка. Она лежала на спине, глядя в потолок, и только ее птичья грудка волновалась, вздымаясь и опадая.
Любовь Владимировна приблизилась к изголовью. Сняла с шеи золотой медальон на цепочке — подарок покойного мужа. Подняла его на вытянутой руке точно над головой Веры. Медальон закачался.
— Смотри на маятник, — попросила Любовь Владимировна. — Глубокий вдох, медленный выдох… Тебе хочется спать… Твои глаза закрываются…
Вера послушно следила за медальоном, и взгляд ее соловел, веки тяжелели. Она несколько раз моргнула, глубоко вдохнула раз-другой — и гипнотический сон взял над ней верх. Он не был в точности таким, как обычный человеческий сон: глаза Веры продолжали следить за маятником из-под ресниц, Любовь Владимировна видела это по трепещущим векам.
— Ты спишь, — повторяла она. — Слушай мой голос… Когда я досчитаю до одного, ты забудешь, кто такой Иван Лихолетов. Когда я хлопну в ладоши, ты проснешься.
Еще не поздно было остановиться. Но у двери, сложив на груди руки, стоял Петров. Когда Любовь Владимировна обернулась, он медленно ей кивнул.
— Пять, — сказала она. — Ты видишь его лицо. Оно расплывается, тает в тумане. Ты забываешь его черты. Они больше ничего для тебя не значат.
Лицо Веры вздрогнуло, нахмурилось. Она задышала чаще. Это не сработает, думала Любовь Владимировна, наблюдая за Верой. Если она дочь своего отца, то не отступится просто так. Чем глубже проросло — тем сложнее будет выкорчевать.
— Четыре… Ты забываешь вашу свадьбу. Ты никогда не была замужем.
На блеклых выцветших стенах остались прямоугольники — следы фотографий, которые уже снял Москвитин. Такие же прямоугольники останутся у Веры, как только все будет сделано. Не получится идеальных швов. Ее память будет что решето: черные дыры, тревожные зияния. Язвы, которые захочется расковырять, чтобы понять, откуда они взялись.
— Три… Вспомни вашу первую встречу… Ты забыла этого человека уже через минуту. Ты очень спешила. Два… Тебе не знаком этот человек. Ты никогда не слышала имени Иван Лихолетов.
Петров подошел ближе. Присев на корточки, осторожно взял руку Веры и снял обручальное кольцо.
— Один.
Любовь Владимировна остановила маятник и легко хлопнула в ладоши. Вера открыла глаза, посвежевшие, удивленные. Оглядела комнату, смущенно улыбнулась Любови Владимировне, потом — отцу.
— Вера, ты как? — Петров взял ее за руку, пытливо заглянул в глаза. Он искал подтверждения, что гипноз сработал.
— Кажется, я уснула… — Вера приподнялась, пощупала колтун на голове. — Так неловко, простите…
— Ничего-ничего, дочка. Главное, что теперь ты наконец проснулась… Люба, подождешь меня здесь? Я потом за тобой приеду… Ну что, родная, поехали домой?
— Куда — домой? — растерянно спросила Вера. Она оглядела обобранную спальню, в которой не осталось ни одной вещи, напоминавшей о муже. Пустоты вместо этих вещей заставили Веру нахмуриться, но Петров уже тянул ее к выходу.
— К нам домой, конечно же, куда еще!.. Ты разве забыла, где живешь?
— Кажется, забыла, — пробормотала Вера и беспомощно оглянулась на Любовь Владимировну. — Приятно было с вами познакомиться…
Любовь Владимировна кивнула и отвернулась. Смотреть в ее пустые, растерянные глаза было невыносимо.
Катарина
Револьвер оттягивал карман платья. Его холодная тяжесть весь день висела на Катарине немым укором — в том, что она хотела выстрелить; в том, что так и не смогла убить. Оказалось, она слабее, чем о себе думала. Катарина читала вслух вечернюю сказку и украдкой поглядывала на детей. Темные непослушные кудри Боруха выделялись среди светлых аккуратных косичек и ежиков. Борух как-то спросил ее, смогла бы она убить человека из злости, и теперь Катарина знала ответ. Ни из злости, ни из ревности, ни от тоски по любви, которой так и не случилось, — не смогла. У нее просто не хватило духу.
Днем, когда Катарина, сжимая в дрожащей руке так и не выстреливший револьвер, медленно шла вдоль колонн, ощущая только пустоту после прощальных слов Макса, ее нагнал Ганс. Она сама не поняла, как позволила увести себя на кухню: Ганс сделал ей бутерброд с сыром, налил сладкого крепкого чаю, осторожно забрал револьвер, отложил в сторону. Вам надо поесть, говорил он. Вам надо отдохнуть. Вы не такой человек, каким хотите казаться, Катарина, я это знаю. Чай проливался в чашку жидким червонным золотом, успокаивал, утешал.
Старина Ганс, невидимый молчаливый свидетель, которому известно многое о замке и его обитателях, — Катарина была благодарна ему за все. В особенности за то, что умел возникать в нужное время в нужном месте и останавливать одним только взглядом.
«Вы бы погубили себя», — сказал он с мягким укором в голосе и положил ей на блюдечко еще сахару. Славный, добрый Ганс, который помнил еще прежнего герра Нойманна. Настоящий хранитель замка.
Он отпустил слуг, всех до единого, чтобы никто не пострадал, а сам остался. «Зачем?» — спросила его Катарина. «Потому что вам может понадобиться моя помощь», — улыбнулся Ганс. Но Катарина знала: ему просто некуда было идти — как и ей. Замок был их единственным домом. Оставалось надеяться, что оба они переживут эту страшную ночь.
Книга сказок братьев Гримм лежала у нее на коленях, буквы освещала одинокая свеча — большего они не могли позволить, чтобы не выдать себя. Катарина перевернула сухую желтоватую страницу. В библиотеке Макса она выбрала сказку о мальчике, который не знал, что такое страх.
«Однажды сказал ему отец: „Ты растешь и набираешься силы — надо же и тебе научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы добывать себе хлеб насущный. Видишь, как трудится твой брат! А тебя, право, даром кормить приходится“. „Эх, батюшка! — отвечал ему мальчик. — Уж, коли на то пошло, очень хотелось бы мне научиться страху: я ведь совсем не умею бояться“» [1].