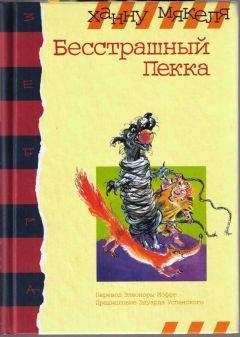Иные - Яковлева Александра
У Ани перехватило дыхание.
— Зачем напоминать себе об этой боли?
— Потому что я хочу всегда помнить, кто я такой на самом деле и чей я сын, — спокойно ответил Макс. Аня протянула руку, чтобы его коснуться.
— Ты не такой, как твой отец, — сказала она, и Макс, поймав ее пальцы, крепко их сжал.
— Спасибо, Аня. Я бы хотел быть таким, как мой приемный отец. Поэтому поклялся, что когда-нибудь у меня будет настоящая любящая семья, а моему ребенку я дам все, чего был лишен сам. Он никогда не будет таким одиноким и несчастным, как я.
— Твои воспитанники… Вы с Катариной для них почти как семья.
Макс грустно покачал головой. Он придвинулся к камину, чтобы подкинуть еще дров.
— Я пытаюсь дать им все, что в моих силах, потому что у каждого должно быть право самому решать, каким человеком вырасти, — сказал он, осторожно укладывая одно полено за другим. — Так говорил мой приемный отец. Мне очень повезло, что у него не могло быть детей. Поэтому он сделал наследником меня — к счастью, до того, как война унесла его жизнь. Но я не планирую усыновить всех подопечных. Потому что надеюсь когда-нибудь жениться и завести своих детей. Хорошо бы успеть до того, как проклятая война снова придет в мой дом.
У Ани пересохло в горле — не то от выпитого вина, не то от смутного предчувствия того, куда сворачивает их разговор. Но остановиться она уже не могла. Ей нужно было знать — точно, наверняка, поэтому она, обмирая, спросила:
— Почему тогда ты до сих пор этого не сделал? Катарина…
Полено оглушительно треснуло.
— Ты снова про Катарину?
Макс грохнул кочергой. Развернувшись, он вмиг оказался рядом с Аней, навис над ней черной тенью, заслоняя огонь, тяжело дыша. Аня сжалась, испугавшись, что снова сказала что-то не то, обидела его или разозлила. Но Макс вдруг подался вперед и уткнулся лбом ей в грудь. Сжав ее руки, заговорил быстро, от волнения сбиваясь на немецкий акцент.
— Аня, послушай… Я знаю Катарину половину своей жизни и даже больше. Мы познакомились, когда я оказался в сумасшедшем доме. Это не самая приятная история… Но Катарина мне как сестра, младшая сестра… Она моя правая рука… помощница, единственный человек, которому я мог хоть как-то доверять. Она была еще совсем девчонкой, когда мы познакомились. Смешила. Помогала действительно не сойти с ума. Научила прятать таблетки и терпеть пытки водой, научила жить дальше…
Аня вздрогнула, и Макс, почувствовав это, обнял ее крепко. Зашептал горячо, в самые губы:
— Забудь о Катарине, она никогда не встанет между нами. Тогда я был совсем один, но теперь все по-другому. Я нашел тебя.
Ладони обжигали кожу сквозь тонкую блузку. Они скользнули вниз по плечам, опалили грудь, крепко, почти до боли, сжали. Аня охнула, чувствуя, как обмякает и плавится, выгибаясь навстречу его пальцам и губам.
— Я хочу быть только с тобой. Ты нужна мне, Аня, — шептал он, покрывая поцелуями ее шею.
Его тело вжималось в нее и голодно вздрагивало. С каждой секундой нежность его прикосновений становилась все настойчивее, грубее — наконец, лопнула вместе с пуговицами ее блузки, рассыпалась звонким жемчугом, оплавилась в трескучем, жадном огне. Ане захотелось остановиться, вырваться, но было страшно противиться этой буре.
Огонь лизал почерневшее дерево. Отвернув голову, Аня смотрела на него, и рассыпанный по полу перламутр пуговиц казался далекими зимними звездами над горящим домом. Пламя пожирало ее, наваливалось и вползало под кожу, раскачивая в пустоте — неожиданно больно, до острых слез и сжатых в судороге бедер. Она смотрела на огонь и представляла, как белым дымом уносится через дымоход в небеса. Ее тело стало легким и пустым, и вскоре она перестала что-либо чувствовать, но еще стонала. Откуда-то она знала: если так делать, это закончится быстрее.
Лихолетов
Они переночевали в лачуге Егеря, хотя спать на месте перестрелки было смертельно опасно. Но Медведь руководствовался только генеральным планом, больше ничем, а спорить с ним было бесполезно. Лихолетов едва ли сомкнул глаза в ту ночь. Чтобы чем-то себя занять, он нашел в лачуге у старика лопату и вырыл ему могилку под ближайшей сосной, а для немецких штурмовиков — одну общую.
Около четырех утра он забылся коротким тревожным сном, вздрагивая от каждого шороха, с минуты на минуту ожидая новой атаки. Но больше к ним никто не приходил.
С рассветом двинули к реке и после полудня вышли к излучине, которая плавной широкой дугой обнимала высокий берег. Отсюда к замку можно было легко пройти на лодке, не чиркнув килем об илистое дно.
Добравшись до точки, обведенной на карте синими чернилами, Медведь сел на первый попавшийся пень и уставился в пространство перед собой. Лиса, осмотрев берег, устроилась так, чтобы держать в поле зрения другую половину окрестностей. Волк рухнул между ними. С виду он был совсем плох. Ночь в лачуге он провел в поту, сейчас едва мог двигаться. Удивительно, что он вообще дошел. Лиса была тоже ранена — пуля попала в левое плечо и прошла навылет, — но будто не замечала этого. Она вытянула из-за пояса ножи, принялась чистить и натачивать лезвия.
Лихолетов повалился прямо на землю, радуясь отдыху. Ноги едва держали, перед глазами плыли цветные круги — от усталости, голода и тупой боли, которая засела в виске. Хорошо же его приложило о тот камень!.. Он раскрыл вещмешок, распечатал сухой паек, впился зубами в безвкусный крекер. Запил из фляжки.
— Вы б хоть поели, — сказал Лихолетов.
Никто не пошевелился. В молчании Лихолетов прикончил часть своего провианта. Нужно было отдохнуть перед штурмом, а лучше — нормально отоспаться. И встретиться со вторым отрядом, потому что пока их сил было явно недостаточно.
— Подкрепления ждем? — уточнил он у Медведя.
— Ждем ночь, — отозвался командир.
— А если они не успеют?
— В полночь считать группу пропавшей без вести и выдвигаться к цели.
Лихолетов вздохнул. Оставалось надеяться, что вторая группа все-таки успеет. Главное, чтобы выбрались из вагона сразу, как поняли, что направление изменилось, — до Нюрнберга путь неблизкий. Впрочем, если они такие же сообразительные, как и Медведь, их шансы крайне малы. А значит, и шансы всей операции.
— У тебя бойцы: один при смерти, еще двое ранены, — Лихолетов махнул рукой на Лису, — а ты хочешь идти вчетвером? На Нойманна?
Услышав его, Лиса оглядела себя с удивлением, будто впервые увидела рану на плече. Она отложила ножи, достала из своего вещмешка походную аптечку. Среди бинтов, ваты и спирта лежал толстый стеклянный шприц, заправленный какой-то жидкостью. Содержимое мутно желтело в сумерках. Лиса разорвала рукав и с размаху всадила себе иглу в раненую мышцу, даже не поморщившись. Медленно надавила на поршень.
Лихолетов с трудом отвел от нее взгляд. В его аптечке такого шприца не было. Что она там себе колет? Какой-то антибиотик? Волк использовал такой же шприц вчера ночью. Похоже, на каждого была только одна инъекция — сегодня он даже не притронулся к своей аптечке. Откинувшись на ствол дерева, замер, только дышал тяжело и с хрипом.
— Может, хоть лодку поищем?.. — спросил Лихолетов, но снова наткнулся на молчание. Он говорил словно не с живыми людьми, а с камнями.
Вздохнув, он поднялся и пошел к реке — промыть рану, стереть с лица пыль и липкий соленый пот пополам с запекшейся кровью. Когда вернусь домой, думал Лихолетов, обмывая голову, пойду в баню. Паспорт, который Егерь успел для него сделать, приятно согревал надеждой, что это будет именно «когда», а не «если». Что он обязательно вернется — и не один.
Вера там, небось, вся извелась… Он представил, как шагнет через порог их квартиры, и тогда Вера, всхлипывая, бросится ему на шею, повиснет на нем. Конечно, тут же простит. А он крепко ее расцелует — и согласится на что угодно, даже на этот дурацкий санаторий, будь он неладен. Он вернется — и война наконец-то закончится: во всем мире и в его голове. Тогда, может быть, они с Верой наконец-то решатся на ребенка.