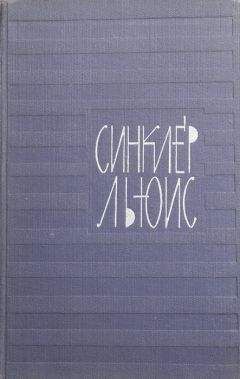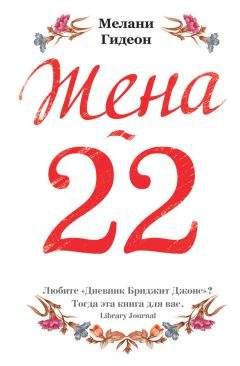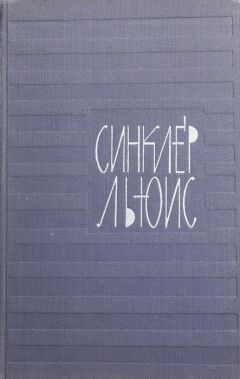"Современная зарубежная фантастика-4". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Греттон Тесса
Я увидел Человека-Башмака в моей спальне, его язык скользит по легкому пушку на животе Ленки, он нежно раздвигает пальцами ее бедра. Тем временем его железный башмак, до блеска начищенный, стоит на столе в гостиной. Человек-Башмак переворачивает Ленку, и та, подчиняясь ему, глядит прямо на меня и заглушает крики подушкой, еще хранящей запах моей слюны и волос. С годами волосы Человека-Башмака не поредели, но он отрастил густую черную бороду, и из нее на наши кремовые простыни сочится темная, как нефть, жидкость – чернила, кровь или просто какое-то жидкое зло.
Когда потрясенная силой подаренного чужаком всепоглощающего оргазма Ленка засыпает, тот человек глядит на меня, безмолвного наблюдателя, и наливает себе стакан дымящегося молока. Он пьет, молоко приобретает цвет лакрицы, я жду, когда чернила проникнут в кровь, отравят сердце и разорвут его в клочья. Он ставит пустой стакан, возвращается в постель. Ленка обхватывает его бедрами.
Быть может, Человек-Башмак больше не существует. Или теперь, когда прервется род моего отца, Человек-Башмак тоже упадет замертво и исчезнет, как только я умру.
Я открыл панель на запястье и проверил датчик уровня кислорода. Его стрелки подрагивали, совсем как на дедушкиных часах, когда он курил сигарету. При хорошем раскладе мне осталось жить сорок две минуты.
Гануш протянул мне лапу. Я взял ее. И мы вместе вошли в ядро облака Чопра.
Пражская весна
Невозможно точно сказать, когда легкие моего деда начали разрушаться, но бабушка клянется, что его последний вдох случился между двадцать седьмой и двадцать восьмой секундой шестнадцатой минуты третьего часа утра второго дня последней недели весны. Я приехал на выходные, сменив обеды из KFC и вонь неработающей канализации в общежитии на бабушкины взбитые подушки и запеканку из лапши с салом и ветчиной.
Бабушка будит меня, я врываюсь в их спальню и вижу корчащегося деда, его голова лежит на коленях у бабушки. Она просит принести воды. Я никак не могу вспомнить, где стаканы, как открыть кран, как его закрыть, как идти, по очереди переставляя ноги, как открыть дверь, и вот я снова стою в их спальне со стаканом в руках, не понимая, как я туда попал, а мой дед мертв. Я так и стою, пока в квартиру не приходят незнакомые люди в форме и бабушка не забирает у меня стакан.
Через неделю я еду в Прагу поездом «В» и мечтаю о сэндвиче, который видел в рекламе. Запах утреннего дыхания и подмышек пригородных пассажиров напоминает испорченную колбасу. По крайней мере, я сижу, хоть и виновато: рядом стоит пожилая женщина, дрожащей рукой поправляя завиток седых волос. Наконец наступила весна, и цветущие деревья окутали город белым и красным, но весна погружает Прагу в состояние всеобщей сексуальной неудовлетворенности – молодые мужчины и женщины, горожане и туристы превращаются в минималистов в том, что касается гардероба, и похотливо пожирают друг друга глазами в автобусах, магазинах и на улицах.
Мы – средоточие загорелых животов, мускулистых рук, полных губ, сжимающих сигареты, посреди потеющих стариков с сумками-тележками и пузатых любителей пива, затянутых в костюмы, этих апостолов капитализма, погрузивших чисто выбритые подбородки в разделы бизнес-новостей своих газет. Я задумался, к какой из групп принадлежу. Могу ли я быть с юными гедонистами, превращающими Прагу в детскую площадку Старого Света? Или цель моей поездки, научный департамент Карлова университета, определяет меня в другую ужасающую группу – взрослых, тех, кто встает по утрам и точно знает, каким будет их день, тех, кто работает, вежливо ожидая своей очереди в могилу?
Мое тело молодо, но сегодня я чувствую себя старым. Слишком старым, чтобы быть исключением. Последнюю неделю я слушал, как бабушка плачет под оглушительные вопли телевизора – Чака Норриса в «Крутом Уокере» дублировал актер, некогда бывший ярым партийцем. Всю эту неделю я кипятил воду, заваривал чай и бесконечно извинялся перед бабушкой неведомо за что.
Трудно понять, зачем мы собрались в той жестяной машине, несущей нас в какие-то выбранные нами места. Трудно понять, зачем мы здесь, пока мы еще здесь. Хотел бы я ухватить суть этих мыслей и передать ее старой женщине с кудрявыми волосами, которая видела, как день за днем разворачивается история, и должна много знать о горе и о том, как молить богов послать знак.
Я приезжаю в научный департамент университета и вхожу в кабинет профессора Бивоя. Перед тем как опустить рюкзак, я проверяю, на месте ли коробка из-под сигар. Профессор Бивой сидит за своим столом и по-кроличьи ест яблоко, срезая передними зубами маленькие кусочки. Я никогда не ухожу на обед, поскольку обожаю наблюдать за тем, как он ест. Меня восхищает, с какой щедростью этот почти шестидесятилетний человек демонстрирует детские черты.
Он смотрит на меня, в усах застряла яблочная кожура.
– А, это ты. Если честно, не знаю, что и сказать.
Я вынимаю коробку из рюкзака. Перед тем как отправиться на Кубу в качестве представителя партии, демонстрировать солидарность Чехословакии с борьбой Кастро против империализма, отец спросил деда, какой самый экзотический подарок он может себе представить. «Кубинскую обезьяну, – сразу выдал дед. – Устроим ее на работу в правительство». Отец не засмеялся. «Ладно, попроси у бородатого психа немного сигар» было воспринято гораздо лучше. Дед курил сигары, когда кормил кур и резал свиней. А еще брал их с собой в пивную и дымил в лицо соперникам по покеру. Когда содержимое закончилось, он держал коробку под кроватью, и я пару раз заставал его нюхающим пустоту у нее внутри.
Мы с бабушкой не могли позволить себе урну, и коробка показалась самым лучшим вариантом для размещения дедушки. На время.
– Он там, – говорю я. – Я трогал его прошлой ночью. Мягче, чем пепел от костра.
– Ты можешь взять выходной, если хочешь.
– Мне нечем заняться.
Мой стол, намного скромнее, чем у профессора Бивоя, завален непрочитанными журналами по астрофизике, в основном на английском. По вторникам я просматриваю их и выписываю все, что может относиться к нашим исследованиям космической пыли. У меня уже десяток альбомов заполнен данными, вырезанными фотографиями, графиками. Я коплю все подряд, важное и неважное, и по вечерам мне нравится думать о том, что я собрал самую полную коллекцию такого рода в Европе, а то и в мире.
По средам и четвергам я каталогизирую образцы космической пыли, присланные нам европейскими университетами, частными коллекционерами и несколькими компаниями, нанятыми на скромный бюджет нашего отдела. Я распаковываю образцы и помещаю в предметные стекла, пока профессор Бивой водружает свою внушительную корму на крошечный лабораторный стул и собирает инструменты. Частенько он приглашает меня заглянуть в микроскоп, но трогать не разрешает. Говорит, что когда-нибудь я заменю его в этом кресле, но не раньше, чем его настигнет смерть или деменция.
По пятницам профессор Бивой вынимает бутылку сливовицы и наливает две рюмки, откидывается в скрипучем кресле, оттягивает врезающиеся в мягкий академический живот подтяжки и громко фантазирует о том, как мы водрузим нашу будущую Нобелевку на полку ручной работы, которую закажем у австрийского столяра.
Профессор Бивой – один из самых уважаемых экспертов в области, где я хочу когда-нибудь стать королем, но я бы не назвал его образцом для подражания. Работа затмила в его жизни буквально все, и его душевный покой зависит лишь от успеха либо неудач в науке, поле еще более непредсказуемом, чем настроение олимпийских богов. Его пожизненная одержимость космической пылью нерушима. Профессор Бивой убежден, что найдет в ней новую жизнь, органическую материю, принесенную в результате распада далеких звезд, метеоритов и комет.
Вся его жизнь крутится вокруг этих журналов на моем столе, публикаций в них и поездок на конференции, где коллеги угостят выпивкой, а какой-нибудь особо впечатлительный стажер – мальчик, девочка, все равно, он не привередливый – отсосет ему в туалете, потому что его жена «больше этого не делает». День за днем профессор Бивой прячется в своем кабинете, пускает ветры и ест сэндвичи со шницелем, и верное кресло проседает все сильнее под весом его неряшливости. Он читает, делает заметки, впечатывает свои находки в древний документ на пыльном «Макинтоше» с треснутым экраном.