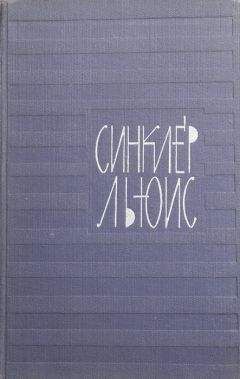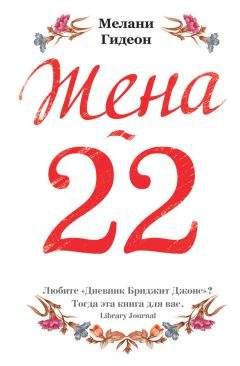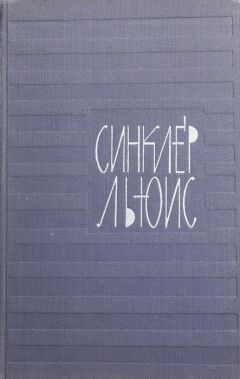"Современная зарубежная фантастика-4". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Греттон Тесса
Я возвращаюсь за свой стол и изучаю свежие журналы, пытаясь отвлечься от мыслей о том, чем я отличаюсь от профессора Бивоя. Полезен ли он хоть кому-нибудь? Лектор с болезненной страстью к еде. Его тяга к собственному комфорту мудра или эгоистична, или ее вообще невозможно отнести к какой-то категории? Я вспомнил фотографии диссидентских времен. Длинноволосые бунтовщики, глаголом жгущие сердца людей, меняющие ход истории днем и пьющие, трахающиеся и танцующие по ночам.
Избитые, допрошенные, арестованные, живые, такие чертовски живые каждый божий день, что, пожалуй, высмеяли бы меня за прославление борьбы. И вот он, Бивой, сидит на стуле, который вот-вот сломается под его растущим весом. Тяжело дышит ртом, готовясь захрапеть. Выбор между тем, остаться ли человеком с тех фото или стать нынешним профессором Бивоем, кажется очевидным. Жалеет ли он о своем выборе, оплакивает ли его в ванной? Он мог бы уже стать президентом. А может, он сделал именно то, что был должен. Держался маленьких удовольствий и ежедневной рабочей рутины.
В четыре пополудни он, пошатываясь, выходит из кабинета и шепчет, что ему надо отлить и поехать поспать. Попутно он выключает свет, будто забыв, что я еще здесь. Я делаю еще глоток из его бутылки, и огонь бренди приносит мне идею. В ящике с выпивкой я нахожу две полные бутылки сливовицы и неочищенный самогон. Открываю мини-холодильник – место, запретное для всех, кроме профессора Бивоя. Там покоятся три завернутых в фольгу сэндвича со шницелем и соленым огурцом, батон салями и брусок сыра с плесенью – Бивою этого хватило бы на два перекуса. Я беру все это и вместе с бутылками сую в сумку. Больше никакой картошки и сметаны. Сегодня бабушка поест по-королевски.
Я выхожу наружу, чувствуя внезапную потребность узнать свой город, приложить ухо к его груди. Быть с людьми в том месте, где они вынуждены скапливаться против собственной воли, проклятье всех больших городов. В том месте, где противоречия города сливаются и создают совершенно новую биосферу, в которой мы обретаем доселе неведомые навыки выживания. Я сажусь на метро до Вацлавской площади.
Горелые сосиски, кондиционированная вонь тканей из магазинов одежды, выхлоп полицейской машины, кислый запах подгузников малышей из дизайнерских колясок, уличные вафли с сальмонеллезными сливками, пролитое на древнюю мостовую виски, кофе, распакованные газеты в табачных киосках, дымок марихуаны в одном из окон над магазином Gap, оставленные втихаря собачьи какашки, капающее с велосипедных цепей масло. Очиститель, стекающий со свежевымытых офисных окон, легкий весенний ветерок, с трудом пробирающийся сквозь ряды зданий, окружающих площадь, – эту какофонию запахов каждый пражский ребенок впитывает с колыбели, и, объединенные этим врожденным знанием, мы зовем ее просто Вацлавак.
Я понимаю, что не был тут почти год. Антитела обонятельной системы сражаются с вторжением смога. Я задерживаю дыхание. Все вокруг воплощает наш забег к капитализму. От времен советского правления мало что осталось. Внимание привлекает главным образом статуя святого Вацлава девятнадцатого века, зеленый открыточный герой с суровым лицом устало парит над толпой на своем верном коне, чьи великолепные бедра и зад щедро облеплены голубиным пометом.
Вокруг постамента собрались равнодушные к истории французские подростки, копаются в своих телефонах и свистят проходящим женщинам. Ларьки с уличной едой предлагают хот-доги, бургеры и нелегальное спиртное с внушительной наценкой, наживая состояние на туристах, горящих желанием прикоснуться к алкогольным традициям Праги. Продажа спиртного позволяет уличным торговцам конкурировать с иноземными «Макдоналдсом», KFC и «Сабвеем», соблазняющими толпу сладким дыханием кондиционированного воздуха, бесплатными туалетами и горячей едой, накачанной химическим удовольствием.
И туристам, и местным приходится каждый день выбирать между наркотическим удовольствием от шкворчащего жира и единения с Западом, предлагаемым этими гигантами под неоновыми вывесками, и старомодной экзотикой слегка подгоревших сосисок от человека, который не тратит лишних слов и не предлагает оценить качество услуг.
Я подхожу к одному из торговцев, бледному мужчине с честными черными усами, и спрашиваю, есть ли у него виски.
Будто не замечая меня, он извлекает из глубин тележки черный пластиковый стаканчик.
– Стовосмисят, – говорит он.
Я отдаю деньги и заказываю сосиску с хреном и острой горчицей.
Такова Вацлавская площадь почти через тринадцать лет после революции. Место, где мы вновь обрели нацию. Где чешское Сопротивление начало атаку на фашистов, строило баррикады и бежало на немецких солдат, вырывая оружие из их рук, когда танки советских освободителей были еще бесконечно далеко. Где в 1989 году звенели ключами люди [205], в то время как безголовое тело поставленного Советами правительства умоляло Москву приказать своим танкам стрелять, Христа ради, перестреляйте этих людей, пока они не установили демократию.
Брусчатка мостовой и скошенные крыши, когда-то видевшие революционные толпы, пули и раскалываемые полицейскими дубинками головы, теперь придают исторический колорит шопингу. Магазины одежды, кафе, стрип-клубы. Промоутеры перед сверкающими входами раздают флаеры с фотографиями девушек и скидками в «счастливые часы». Еще только половина пятого, а эти бойцы греха уже в окопах, и подбородки их воняют водкой со вчерашней ночи.
Я пью виски и думаю, не стала ли площадь какой-то бесцветной, несмотря на неоновые огни, не зреет ли она для очередных исторических событий. Будем ли мы когда-нибудь снова маршировать по этой брусчатке единой нацией, сражаясь с очередной угрозой бьющемуся сердцу Европы, или эта новая Прага превратится в торговый центр с великолепной архитектурой?
Моя сосиска готова, я заказываю еще виски.
И улавливаю запах духов.
– Водку и сосиску, – говорит женщина.
Торговец отказывает ей.
Я поворачиваюсь. Короткие темные волосы, тонкие губы подчеркнуты, но не увеличены ярко-красной помадой. Серое платье плотно облегает бедра. Она маленькая, очень маленькая, но не носит каблуков, чтобы казаться выше, и ни капли не тушуется перед огромным мужиком напротив. Вообще-то, она даже слегка задирает подбородок и смотрит торговцу прямо в глаза, будто ей нечего стесняться, и, если на то пошло, это он должен быть пониже, чтобы сравняться с ней. Похоже, ее не трогает хаос и враждебность площади, прямо как одну из хмурых статуй святых и воинов, стоящих здесь, с тех пор как Прага была всего лишь торговым селением. Она пробуждает любовь. Я немедленно начинаю желать ей добра.
– Почему это? – спрашивает она.
– Ни сосисок, ни спиртного. Он забрал все подчистую, – отвечает торговец.
Она оглядывает меня и свидетельства моих преступлений – тарелку с сосисками в левой руке и наполненный стаканчик в правой.
– Везет мне, как утопленнику, – говорит она.
Я протягиваю к ней обе руки в искупительной жертве. Она оценивает взглядом трясущуюся тарелку и ухмыляется.
– Я возьму виски, если ты серьезно.
Я киваю.
– Он что, немой? – спрашивает она торговца.
Он режет себе палец, шинкуя лук.
– Дерьма кусок, – рычит он.
Я даю ей виски.
– Можешь откусить от сосиски, – предлагаю я.
– Какой джентльмен, – говорит она.
Торговец пинает тележку, кровь с пальца капает на столовые приборы. Тележка трясется и будто вот-вот развалится. Вокруг начинают собираться зеваки, неторопливо подходит тощий полицейский, жующий куриные наггетсы.
Женщина в сером платье жестом указывает на скамейку на другой стороне улицы и уходит, не оглядываясь. Она садится, закидывает ногу на ногу и осушает виски одним глотком, закончив легкой отрыжкой. Смотрит на меня оценивающим взглядом, пока я раздумываю, стоит ли сесть с ней рядом. И тут торговец переворачивает тележку, булки и специи высыпаются на тротуар. Полицейский бросает свои наггетсы и хватается за дубинку, а торговец выставляет перед собой щипцы.