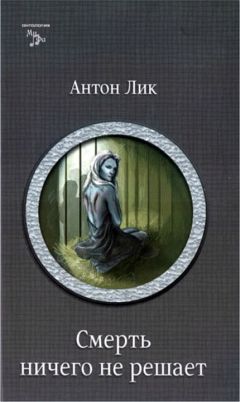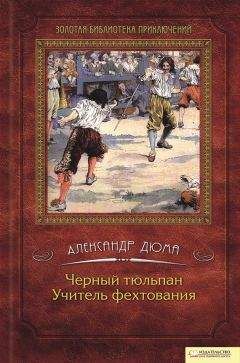Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
— Но случаются.
— Вы утопист.
— А что плохого в утопии? В мечте о том, что возможно жить так, чтобы другие за это не платили смертью?!
Старец, приняв свиток, не спешит разворачивать. Наконец, со вздохом, произносит:
— Вы мечтатель. Вы живете мечтой, ибо вам просто не доводилось жить там, где люди выживают. Лишь выживают.
Парень молчит. Очень долго молчит, и его неподвижность выразительнее всяких слов. Наконец он решается сказать:
— Я родом из Наирата.
— Простите, не знал. Ну что ж, тогда не удивительно, что вам, видевшему темноту, так мечтается о свете. Но помните, что порой мечты заводят совсем не туда. А ваша рукопись… я прочту ее. Я постараюсь быть беспристрастным.
Он разворачивает свиток, которому предстоит превратиться в книгу. В ней будет сказано многое, но неизвестно — услышат ли люди.
Наверное, услышат, если писавший её будет светом.
…темнотою ночь кружила, вычернила небо, седой росы на травы сыпанула. А и хорошо. Плывут по воде сполохи от костра, тревожат кувшинки. Бродят по-над обрывом кони, перекликаются ржанием, не дают уснуть. Хотя чего там, у Шоски сна ни в одном глазу, век бы на огонь глядел, на воду, на лошадок.
— Шоска, а Шоска, — Туська, меньшая из Вадулов, подсаживается ближей и сует горбушку хлеба. — А расскажи, как ты кагана видел?
И Шоска, принимая хлеб — не из голоду, а уважение выказывая, — начинает говорить.
Про Гаррах, про кагана, который красиво ехал, деньгу народу раздавая; про байгу, которая была; про то, как Сарыг-нане — храбрый, как и отец его — славной смертью помер.
Говорить-то говорил, но про иное думал. Про то, что жалко ему и коня, и Сарыга, и всех наиров, которым на байге ли, на войне, а смерти не минуть.
Иного для них хотелося. И желание Шоскино тонкой нитью уходило в землю.
В земле гудело. Ылым слышала этот гул всегда, сколько себя помнила. Порой он стихал, превращаясь в нудное мушиное жужжание, порой становился громким, надрывным, и тогда начинала болеть голова. Сегодня с самого утра под землею заворочалось, заскрипело старым мельничным колесом; смололо скрип в знакомое гудение, которое ближе к полудню переродилось в грозный рокот.
Плохо. Быть беде. В тот раз, когда под стенами распустились стяги Тай-Ы-кагана, так же рокотало.
Чуяли недоброе люди. Пугались, вспыхивали злостью по пустякам мужики, слезой расходились бабы. Топотали в стойлах кони, воем маялись собаки, а крысы серой волной хлынули из подвалов.
Но к вечеру все унялось — не перед бурей ли затишье? — а дозорный, посланный Ылым на стену, закричал всполошенно:
— Хозяйка! Едуть!
Не уточнил, кто, но Ылым велела:
— Открывайте ворота.
Запираться не имело смысла. От судьбы дряхлые стены замка не защитят.
— Да что ты мелешь, дура?! — Отец ударил по столу кулаком, но теперь Ылым не испугалась. Она твердо знала, что поступает правильно. И отец это знал, а кричал из упрямства.
— Да ты хоть понимаешь, чем это может… Если кто увидит? А увидят непременно!
Кто? Слуги? Конные, что приехали с отцом и теперь, заняв нижнюю залу замка, пили, ели, шумели? Или молчаливый хитроглазый кучер, что в залу не пошел, а остался ящик сторожить? Или усатый, чем-то похожий на Бельта, вахтангар, присматривавший сразу и за ящиком, и за кучером?
Много вокруг жадных глаз, но разве ж они — истинная причина?
— Гудело, — сказала Ылым, глядя в отцовские глаза. — И будет еще. Демоны меха раздувают.
— Все равно нельзя. Надо тихо.
— Вечером будет угощение в честь настоящего ханмэ. Будут пировать все от стариков до детей. Потом крепко уснут до утра.
Ылым погладила один из многочисленных мешочков на поясе.
— Но знаешь, отец, тебе не людей, тебе их бояться надо.
От летящего кубка она уклонилась: сказалась сноровка. Да и сдал отец, ослабел, уйдет скоро. И, понимая неминуемость смерти, молчит.
Не разрешил, но и не запретил. Дал решать самой. Впервые.
Тяжелую дверь изнутри заперла сама, сама же лампы расставила и свечи зажгла. Сама, сбивая руки, возилась с замками и цепями. Где-то за стеной, в ночной темноте, крутился любопытный и назойливый кучер Паджи. В рот ничего на пиру не брал, а после помогал даже. И ключи передал, но только удостоверившись, что ящик оказался в нужном месте.
Крышку открывать Ылым медлила, все принюхивалась и дрожь в руках унимала. Наконец, решившись, толкнула, зажмурилась, а когда открыла глаза — выдохнула с удивлением и ужасом. Неужели живой?!
Нет, не живой. Не шелохнулось перышко у губ, не запотела дыханьем полированная пластина. И сердце молчит, и раны — сколько ж их?! — не кровят. А что тело по жаре непорченое, так то камы постарались.
— А в тебе ничего от нее нет. Его-то я не видела, но отец говорит, что похож. Не знаю. Наверное. Мы с нею одного года были. — Ылым все равно прикасалась к телу осторожно, не из брезгливости — из страха нарушить хрупкую иллюзию. — И в один год за нас тархат дали, только за меня двадцать коней да три сундука перца, а за нее…
Одежда, Ылым принесенная, бедна. И седло самое простое. До того простое, что приходится отворачиваться, стыдясь на лицо глядеть.
— Я ей завидовала поначалу. Потом, правда, все переменилось… Как оно началось, муж меня сразу домой вернул, не захотел мятежом мараться. Да разве ж это мятеж? С кем? Всех до Мельши перебили.
Кому она рассказывает? Племяннику, которого никогда не видела? Кагану, лишенному достойного погребения? Мертвецу? А хоть кому, но гудит земля, требует не то покаяться, не то поделиться болью, годами накопленной.
— Мужчины воюют и умирают. Женщины тоже. Разве ж так можно жить?
Нельзя, но почему-то живут. Плодят злобу, льют черноту, вымарывая все светлое. Черное-белое, белое-черное, вертится знак Всевидящего ока, сливаясь единым пятном. И действительно, есть ли на нем белое?
Когда они выбрали? Или выбирают? Каждый день, каждый миг, каждым словом и поступком? Изощренный суд, когда воздается не каждому, но всем равной долей?
Разве это справедливо?
И разве это не справедливо?
— Меч и щит. А вот и конь, смотри, — женщина сует под руку глиняную фигурку, которую сменяет витой хвост плети. — Не золотая, но и сам Ылаш с простой ходил.
Она говорит и говорит. Запоздалый труд, чужая вина, взятая добровольно. Еще немного света, еще немного шанса миру, который — Элья точно знала — готов рухнуть.
У нее, незнакомой, ласковые руки. И поет хорошо, примиряя с тем, чему определено случиться совсем скоро. Уже не страшно.
Совсем не страшно, больно только. Особенно ладоням. И рот посечен, точно стекло жрала. А ведь и вправду жрала что-то. Мех ковровый?