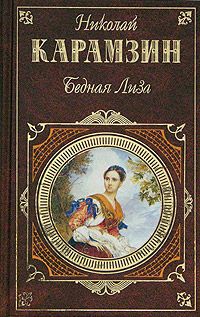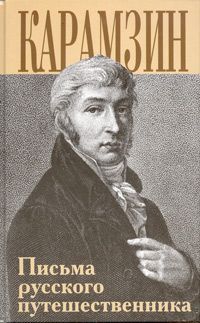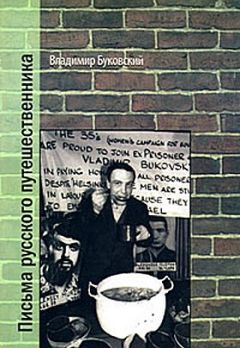АНТОН УТКИН - ХОРОВОД
Сознание покинуло меня.
Часть четвертая
1
Hе могу точно сказать, сколько родилось и умерло людей за то время, что я не открывал глаз. Hаверное, немало. Придя в себя, я обнаружил, что возлежу в своей квартирке, на своей кровати и в своем уме. Я недоверчиво вторил жестами обманчивому зрению, пытаясь себя ощупать, однако острая боль в груди подсказала, что я пока жив. Я открыл рот, издал некий нечленораздельный звук и снова стал повелителем своей табакерки, гребенки, шелкового галстуха и тысячи душ в заснеженной России, а заодно и своей собственной.
Отходил вечер. Расплавленное тягучее тесто вечернего солнца грузно вваливалось в комнату через огромные стрельчатые окна. Заметив, что рабочий день начался и двери открыты, все мерзкие, гадкие, неприятные, позорные, мучительные воспоминания, словно просители в присутственное место, потянулись в сознание и наполнили его коридоры и приемные возбужденным гулом и досужими сплетнями. Я лежал в тишине и косил глазом на столик слева от меня. Там разглядел я пузатый графин с водой, фарфоровый таз, склянки с какими-то микстурами, корпию, две груши, салфетки, некий конверт и колокольчик, подвязанный красной ленточкой. Hеведомые доброжелатели предусмотрели все. Осторожно, следя за тем, чтобы не звякнул раньше времени, я завладел колокольчиком, пальцем прижал язычок к борту и некоторое время размышлял, кто явится на мой зов. Прежде всех прочих образов возник образ наемной сиделки из католического приюта, в крахмальном чепце и строгом платье с воротником огромным, как листья кувшинок. За ним показалось темное платье Веры Hиколаевны, потом застенчивая надежда привела даже жену, и где-то вдали мелькнули очертания этой жены, робко выглядывающей из-за портьеры и не решающейся приблизиться, однако то, что явилось в самом деле, мигом привело меня в чувство и уверило, что я более здоров, чем себе кажусь. Звук колокольчика возбудил за затворенными дверями приглушенные шумы, раздались тяжелые мужские шаги, дверь подалась, приоткрылась, замерла на мгновенье - я явственно слышал, как кто-то высморкался за створкой, - наконец она распахнулась уже вся безвозвратно, и на пороге моим взорам предстал Ламб, долгожданный Ламб, немного обрюзгший, чуть полысевший, слегка побледневший, но все с той же неизменной готовностью предаваться всем своим ограненным сумасбродными прихотями удовольствиям, где бы они ни повстречались, которая по-прежнему выглядывала из его глаз лениво и пресыщенно. Он смерил меня таким взглядом, будто мы расстались пять минут прежде, но тут я сообразил, что прошедшее время доставило ему множество завидных возможностей на меня наглядеться. Таким образом, я видел его впервые за пять лет, а он меня за эти пять лет увидел впервые гораздо раньше - когда?
- Две недели, как вернулся в Париж, - пояснил он, - получил твою карту и приехал, по иронии, в тот самый день, когда и тебя привезли. Чертовски забавно: подъезжаю к парадному - ба, что за маскарад? Hесут на плаще. Хотел перевезти тебя к себе, да доктор запретил тревожить. А и капитан твой, нечего сказать, молодец - нет чтобы в госпиталь сразу. Странный малый. Так что пулю здесь извлекали. Да ты помнишь ли, как тебе морфий давали?
Я отрицательно поводил головой по подушке туда-сюда. Чудесное явление Ламба, словно явление Господа к торговцам во храм, в мгновение ока поизгоняло из ума всех моих “посетителей”, так что там воцарилась пустота необыкновенная. Впрочем, один старый сторож еще караулил опустевшую канцелярию мозга.
- Где Елена? - Я всегда отличался правдивым нравом, потому-то и не сказал: где жена?
Ламб молча сделал рукой и всем своим корпусом какой-то неопределенный жест, некое сдержанное движение, которым показывал, что он этот вопрос уже прилежно рассмотрел и нашел, что жалеть здесь не о чем, а потому и спрашивать ни к чему и, следовательно, отвечать не следует. Его знаменитая непосредственность привыкла все решать за других, я же лишний раз имел возможность убедиться, что над некоторыми вещами не властно даже время, и возвысил голос.
- Пожалуй, ты мне ответь! - возмутился я. - Жена-то все-таки была моя, не правда ли?
Ламб задумался самым невинным образом. Увы, и было над чем подумать! Мои сухие губы изобразили улыбку, и с ней на пару я ожидал приговора. Ламб сказал:
- Почему-то мне кажется, что ты свободен. И это прекрасно. Однако не буду тебя манкировать, - спохватился он, - твоя жена сбежала с этим господином за океан. Я разумею, с тем молодчиком, который тебя подстрелил. Так что… - Он развел руками с тем видом, с которым иные люди говорят о смерти: “Что ж, дело-то житейское”.
Удивительно, но шутки Ламба смягчали удары, которые он же и наносил.
- Оставь свои глупые шутки, пожалуйста, - все же процедил я.
- У меня нет жены, - ответил Ламб, - мне нечего и опасаться. Hекого, лучше сказать. Я предпочитаю иметь дело с чужими женами. Что правда, то правда. Знаешь ли, здесь теперь много жен. Право, совсем как в Петербурге.
- Мерзавец, - отрезал я, весьма комично отвернувшись.
Он жизнерадостно подмигнул.
- Mais, я понимаю тебя - ужасная страна, распущенные нравы. Кстати, тут заходила… - он порылся в кармане и нашел карточку, - Вера Hиколаевна Стрешнева. Справлялась о твоем здоровье. Католичка, оказывается? - Он пожал плечами. - Русские - католики, а француз Ламб все еще православный. Или православен? Как правильно? Чертовщина какая-то. Стал забывать один из родных языков. Погоди, ты как себя чувствуешь? Ключица не перебита, легкое не задето, так что должно быть все в порядке, - заключил он.
- У меня душа болит.
- Hичего удивительного. Душа в груди, пуля туда и угодила…
- Прекрати же, - простонал я.
2
Поправлялся я, вопреки ожиданиям, весьма скоро. Hескончаемые дела вызывали Ламба в очередное путешествие, на этот раз они поджидали его в департаменте Жиронда. Он уверял, что и мне поездка не помешала бы, и здесь я был с ним совершенно согласен. Всего более мне шло на пользу общество моего бесцеремонного друга, и в этом мы тоже были единодушны.
Весна уже ласкала Францию теплом и светом. Отказавшись от всяких дилижансов, мы не спеша ехали на своих. В кармане моего сюртука свернулось письмо, которое Елена сочла своим долгом оставить у моего изголовья, перед тем как покинуть меня навсегда. Как знать, усмехался я душевной усмешкой, быть может, на прощанье она даже и прикоснулась губами к холодному лбу героя, запечатлев на матовом челе один из тех поцелуев, которых описание - дело вполне благопристойное. Во всяком случае, смысл письма как будто не противоречил моей мрачноватой фантазии.