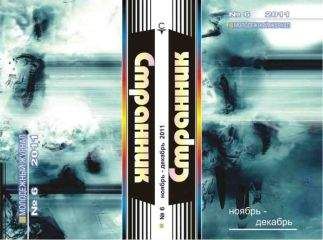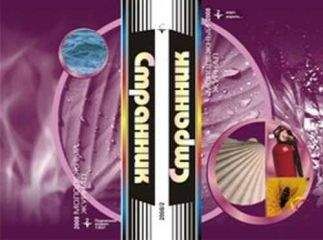Наталья Рузанкина - Однажды осенью
После свадьбы, хмельной, разудалый, смеющийся, ввалился в кухню, где неторопливо хозяйничала она, постоял, блаженно улыбаясь, спросил с затаенной гордостью:
— Как тебе? Царевна, а?..
— Мертвая она, сынок, — был тихий ответ.
— Т-ты… т-ты чего это? — заикаясь, трезвея, пробормотал он. — Д-дура старая, т-ты чего?
— Душа ее вымерла, родной. Ходит, говорит, красоту свою восковую носит — то ж видимость одна. Внутри — все черно, мертво… Берегись ее.
— Д-дура, — с надрывом выдохнул он, сплюнул зло и наверх поднялся, в ночь любви, в рай, с небес сошедший, в золотой солнечный плен…
И покатились тогда дни, расписные, нарядные, будто елочные шары, и зеркала радостно отражали и множили красоту молодой хозяйки, и ощущал он себя воистину князем Гвидоном, взявшим в жены чудо чудное, и сам воздух вокруг, казалось, переливался от счастья… Врывался вечером в дом, широколицый, шумный, наивно-улыбчивый, складывал в изголовье Царевны стопку глянцевых журналов, каталогов меховых и ювелирных местных выставок, бросал усмешливый взгляд на кукольные лица: «Смотри, в подметки тебе не годятся», целовал шею, плечи и грудь будто из дивного золотого фарфора, заглядывал в гжелевые очи… После путешествия в Страну Любви вытягивался рядом, ослепленный, восхищенный, пока она, завернувшись в плед, с лениво-снисходительным видом перебирала каталоги, обводила сверкающим душистым ногтем наряды, украшения, улыбаясь загадочно…
— Закажу, обязательно закажу, — бормотал он, обмирая от сладкой, разрушительной боли, вновь погружаясь в зыбучий песок желания. — А это куплю. Завтра же. И это…
Любила хризантемы, розовый «мускат», одеваться умела и любила, и со своей нежной, позолоченно-фарфоровой прелестью стала предметом вожделения беспутных друзей и объектом черной зависти их подруг. Не воспринимала ни вожделение, ни зависть, держалась замкнуто, улыбчиво-надменно, на слова была скупа, сдержанно-молчалива.
— Не разговаривает! — пожаловался он однажды Хозяину.
Тот загрохотал весело:
— Баба должна быть как красивая открытка, а не как микрофон взбесившийся! Повезло тебе…
Напугала однажды, напугала до дрожи в сердце, до утробного мата, когда у пинчера Марты появилось потомство и черно-рыжие слепые комочки весело закопошились на старой пятнистой шубе в дальнем углу у крохотного чулана. Дрогнуло позолоченное лицо, в гжелевых глазах сверкнула брезгливость:
— Утопи… мерзость эту.
— Да ты что?! — он изумленно вскинул голову. — Я хозяев им найду, ребята разберут!
И забыл слова ее, а через пару дней вернулся и не услышал ни заливистого лая Марты, ни тихого попискивания кутят.
— Где?
Улыбнулась — волшебно, сказочно, опалила голубым лукавым огнем смущенного взора:
— А, да ну их! Одна вонь… Живодерам сдала.
Закачавшись от услышанного, ударил широко, сильно, как в хмельной «доброй» драке, потом пил в саду за подгнившим черным столом под росистыми яблонями, бормоча сквозь кипучие слезы слова матери: «Мертвая, Боже ж ты мой…»
Звезды чертили огнистые следы через сиротливую черноту августовского неба, от страшного, предвечного одиночества сжималось сердце…
В коридоре еще пахло щенками и Мартой, мокрой шерстью, молоком и кисло-соленым привкусом псины, пятнистая подстилка валялась в углу. Встряхнул, расправил ее на коленях, гладить стал, пьяно, задумчиво, и руки вдруг задрожали. Вновь знакомый взор почувствовал, синий, опаляющий…
— Крест, эмигрант, — в дверях стояла, рукавом шелковым лицо разбитое прикрывая, одни глаза, а в них — ненависть, бездонная, как глубины небесные, голос тонкий, как леса натянутая. — Шваль деревенская! Думаешь, купил? Думаешь, можно все? Я тебе устрою!
«Заговорила!» — с растерянностью и ужасом подумал он.
Через день после случившегося приехала из деревни мать, где гостила пару недель в уже проданном доме, долго сидела с ним в саду под небом тихим и теплым, гладила по руке.
— Уходи от нее, сынок, под сердце она тебя ударит. Мертвым — им ведь не жалко…
Не послушал он тех слов, наверх поднялся, в ноги пал, выпросил вновь ласки и плен золотой у Птицы своей сказочной, простив содеянное зло. Да только она не простила…
Осенью яблочной, паутинной настал тот единственный жестокий час, что постигает каждого, час высокого одиночества, час разоблаченных оборотней. Нищим он счел себя в тот час, нищим и бесприютно-одиноким, забыв, что стоит за его плечами великая, неизбывная, молчаливая любовь…
Тот день пах дымом, сладким дымом яблочных листьев, что сгорали, содрогаясь, на высоких кострах осенней поры, а небо было нежным, как в апреле, с голубиным отливом, теплым и безмятежным. Он почувствовал чужой дух с порога и застыл, вглядываясь в сонный, солнечный покой полуденных комнат. Умиротворенно тикали часы, пылинки плясали в ликующих лучах, а темный, вкрадчивый сквозняк тронул душу, ледниковый родник забил под сердцем. Как долог был путь наверх, в ее комнату, в святая святых, в медовый рай, где пребывал он долгие часы ночи. Дверь не хотела открываться, словно защищала, берегла его от грядущих часов ужаса и отчаянья, но в конце концов пустила за порог.
В легком полумраке в снеговых глубинах постели, устав от страсти, тонули два тела — ее, будто вылепленное из дивной золотой глины, и дрябло-сизое, раздутое, как резиновая рыба, тело Хозяина.
— Без обид, сынок, — сверкающе улыбнулся Хозяин, закидывая со лба редкие потные смявшиеся пряди, усмехаясь блудливо, по-котовьему. — без обид, малый! Красивая баба — как куст цветущий, каждый понюхать хочет… Или стреляться будешь?
— Не будет, — засмеялась, как хрусталь разбила, дивная заморская птица. — Какую уж неделю… отродье свое собачье по живодерням ищет.
— Бабу не трожь, — лениво пережевывал Хозяин слова, прихлебывая из высокой оплетенной бутылки. — Узнаю, что обозвал или прибил — самого прибью. Не тебе одному… с царевнами спать. Или вот что… — по-свойски, по-доброму прищурился он. — Я ее у тебя арендую! — и захихикал, вертя головой на жирных плечах, в восторге от собственной выдумки. — Заберу ее, у меня поживет, а ты во Владик смотаешься, «Черокки» пригонишь. Согласен?
Черный поток бессилия унес тело, на берегу жизни осталась душа, плачущая, ошеломленная, обворованная душа, одна-одинешенька у кромки сумрачной, предательской земли. Мироздание погибало, планеты и галактики пожирала черная, хохочущая тень, и над всей этой смертью всепобедно сиял позолоченный, фарфоровый лик Царевны…
Всхлипнув, рванулся в сторону, пистолет выхватил, стеклянный, рассыпчатый крик ее осколками разрезал воздух. Хозяин поднимался, оплывший, косоплечий, с дряблой студенистой полуженской грудью, смотрел темно, усмешливо. Какая-то страшная черная радость плескалась в лице его.