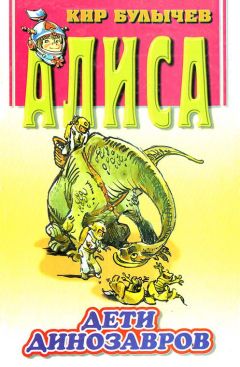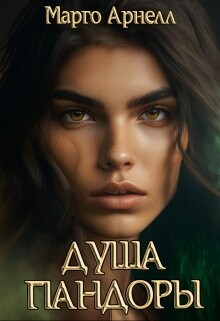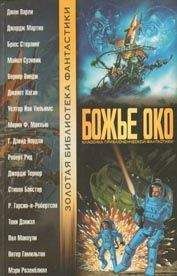Явье сердце, навья душа (СИ) - Арнелл Марго
— Заболел, наверное, — выдавил он.
Но дома градусник показал не тридцать семь с плюсом, а ровно тридцать шесть. Богдана тем временем вовсю лихорадило. Не помог даже горячий бульон, приготовленный мамой по бабушкиному рецепту. Этот бульон, если верить семейной легенде, мог поднять на ноги самых больных. Богдан послушно пил чай с медом. Пил, морщась — мед не любил. Но маме и без того в последнее время пришлось несладко. Тревога за сына отпечаталась на ее лице темными кругами, словно она до сих пор страдала бессонницей. А еще, кажется, новой морщинкой, которая обозначилась между бровей. Сделать все, чтобы она лишний раз не волновалась — это такая малость…
Богдан сказал, что ему стало лучше — чтобы мама не сидела всю ночь у его кровати. Когда она ушла, достал с комода еще два одеяла, набросил поверх своего. Не помогло. Уже перевалило за полночь, а он так и не мог заснуть. Зубы выбивали дрожь, будто чечетку. Руки коченели, пальцы ног Богдан вообще уже не чувствовал. По правде говоря, он уже не чувствовал ничего — будто его душа вдруг отделилась от тела.
Не хотелось вспоминать о том, что недавно произошло. И все-таки вспомнилось. Врачи называли его случай странным. От самого удара об автомобиль Богдан не сильно пострадал — скорость горе-водитель набрал небольшую. Беда в том, что, падая, он сильно приложился головой о бордюр. Крови, говорят, было столько, что он был обязан скончаться на месте. Вместо этого впал в кому. И очнулся две недели спустя.
И радоваться бы, но этот разлившийся по телу смертельный холод...
Казалось, смерть, прикоснувшись к душе Богдана однажды, не хотела так просто его отпускать.
Глава семнадцатая. Дочери Лешего
Не нравилось Маре больше в серебряных палатах Мораны.
Все ремесла, что ей показали, она давно уже освоила. Вышивка, сколь искусной она ни была, уже набила оскомину — как и прекрасный золото-серебряный дворец. Надоели пустые разговоры невест Полоза — каждый день все об одном да о том же. Они не знали даже того, что известно ей, а потому и говорить с ними было не о чем. Невесты лишь мололи языками о крепких и рослых царских дружинниках, об Олеге с его гуслями, о новой искуснице, что появилась недавно в дворцовых палатах.
И, конечно, о Змеевике.
Они не помнили, как на их глазах Полоз обращался уродливым, устрашающим змием. Как обвивал кольцами искусницу Драгославу и уносил ее с собой. Под землю, в свою сокровищницу, обладать хотя бы частью которой так жаждал Кащей. Невесты Полоза готовились к новому Змеевику — шили-вышивали, пели-танцевали, осваивали колдовское мастерство, чтобы поразить «заморского царя».
Не ладилось у Мары с Кащеем, что не желал больше смотреть ни на нее, ни на свою супругу, что день-деньской пропадал в подземельях дворца. И с Мораной не ладилось. Это невесты Полоза млели от каждого милого слова царицы, от каждого брошенного на них взгляда — драгоценного, стало быть, внимания. Видели в ней статную, властную владычицу царства Кащеева, не подозревая, как хрупка ее власть, что суть той — обманы, иллюзии и память, отнятая у людей. Если исчезнет все это, что останется?
Смешно теперь вспоминать, как сильно тревожилась Мара, когда Полоз не выбрал ее своей женой. Она решила, что подвела Морану. А это Морана ее подвела. Это царица оказалась настолько слабой, что позволила какой-то живой девице с Нави себя обмануть.
Интересно, приходилось ли другим разочаровываться в своих создателях?
Но была ли таковой Морана? Царица сотворила Мару в час Карачуна… Но что, если она — лишь ремесленница? Что, если ее истинным создателем был Карачун, чья сила — зима — ярилась внутри Мары?
Она была на суде — все той же незаметной, тихой поземкой, никем так и не обнаруженной. Слышала, как Яснораду называли живой, принадлежащей царству Навьему. Быть может, тому царству принадлежала и Мара? И с того дня ее не оставляла мысль: Навье царство непременно куда просторнее Кащеева и куда богаче — не только землями своими, не только золотом, но и знаниями, и колдовством. И люди там не одурманены царскими чарами, не пусты, не выхолощены. Наблюдать за ними, верно, куда интереснее. Куда интереснее их узнавать.
Если Мара — Навье создание, значит, к мертвым землям она не прикована. Значит, может идти, куда пожелает. Может даже, однажды она встретит Карачуна и спросит, кто был ее истинным создателем.
Но главное — она найдет царство себе по нраву. И будет царствовать в нем.
***
— Волшебное яблочко, покажи мне Богдана.
Отчаяние прорезалось в тихом голосе Яснорады, и воззвание, почти ритуальное обращение, прозвучало мольбой. Яблочко покатилось по блюдцу, своей магией вновь превращая серебряную гладь то ли в зеркало, то ли в причудливой формы окно.
Она подалась вперед, не дыша, и сжала лапу Баюна. Тот мявкнул — от волнения слишком сильно, должно быть, сжала, — но лапы не отнял. Так они и сидели, напряженно вглядываясь в серебряную поверхность.
А та, словно озерная вода, разошлась, и на дне обнаружился…
Образ Богдана.
Он шел по улице вместе с рыжим пареньком. И пусть Богдан выглядел немного бледным, и усталость наложила печать на его лицо … Он был жив.
Яснораду захлестнули эмоции — будто ветер, обернувшись торнадо, подхватил и закружил. С губ сорвался вздох облегчения. Она и впрямь сумела его спасти. Та, что лишь провожала мертвых, впервые в жизни спасла от неминуемой гибели чью-то душу.
Даже солнце, казалось, засияло ярче и грело еще сильней. На радостях Яснорада подхватила Баюна и в танце с ним закружилась. Тот огласил окрестности испуганным мявом, но после словно разомлел и решил получать удовольствие от новых для себя ощущений, когда весь мир превращался в карусель. Танец, впрочем, оказался недолгим: руки от тяжести скоро занемели. Яснорада обессилено рухнула на траву и заливисто рассмеялась. Улыбался и Баюн.
— Видишь, Яснорадушка, а ты волновалась! Значит, все не зря было?
— Не зря, — улыбаясь ослепительно, как само солнце, подтвердила она.
Посреди поляны рос цветок с продолговатыми сиреневыми лепестками. Яснорада не удержалась, сорвала его и вплела в косу. Баюн, тихо вздохнув, отвернулся. Знал, что она тоскует по Ягой. Знал и то, что ничем помочь ей не может. Пока он искал ручей, Яснорада собрала в котомку ягод. Спелые, налившиеся сладким соком, они падали с куста прямо в раскрытые ладони.
Едва память о сумрачной топи стер золотистый солнечный свет, едва осталась позади уютная поляна, как снова задрожала земля под чьими-то огромными ножищами. И страх вернулся — будто и не уходил никогда.
Сглотнув, Яснорада схватила лапу Баюна. Крепко сжала.
— Из болота мы с тобой выбрались, потому что зла никому не желали. Лес мы не обижали, Лесовику не за что на нас серчать. Верно ведь?
Кот молчал — голоса навьи слушал.
Супруг Ивги, Леший, вышел из-за дерева. Из головы его, что макушкой доставала до кроны, росли ветвистые, как у оленя, рога. Приглядевшись, Яснорада поняла: не рога это — изогнутые ветви. В бороде длинной запуталась листва, хотя она не удивилась бы, узнав, что из бороды та и прорастала. Кожа даже на взгляд казалась твердой, будто покрытой коростой. На щеках — дубовых или лубяных — проросли грибы.
Оторопь брала от одного взгляда на исполинского духа, такого же древнего, как деревья в лесу.
У узловатых, словно корни, ног Лешего кружилась стайка навьих детей. Одни — нагие, другие — листвой и мхом прикрытые да подпоясанные осокой. Те, что помладше и помельче, цеплялись за тело духа-хранителя леса — на загривке сидели, висели на руке. Другие — стройные, вытянувшиеся, ростом Яснораде по плечо или того выше, вышагивали рядом. Роднил их цвет волос, украшенных лесными цветами да ветками, и цвет мягкой, как у человека, кожи. Все оттенки зеленого там были — от салатного до изумрудного.
— Зачем бродишь по лесу моему? Он для нас только, для детей навьих.
— Погоди, отец, не гневайся, — вдруг сказала лесной дух, что шла впереди, на несколько шагов опережая Лешего. — Сестрица она моя.