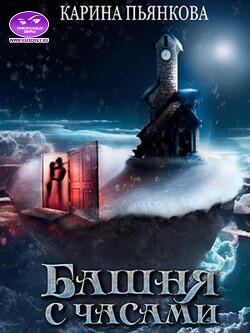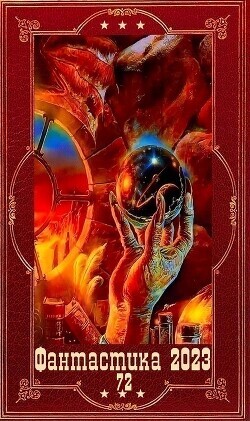Невьянская башня - Иванов Алексей Викторович
— И в чём же пагуба от меня гонимым братьям моим? — спокойно спросил Семёнов. — Отверзни тёмные очи мне, слепородному.
Бахорев задрал голову, нервно подёргивая ногой.
— Ты, Семёнов, опять начнёшь крамолу сеять: и Никон, дескать, канон попрал, и священство пресеклось, и царь Пётр антихристом был.
— Всё истинно, — важно подтвердил Гаврила Семёныч.
— Ты раскол укрепляешь, а от него заводам сплошной урон!
Гаврила Семёныч от удивления задрал брови:
— Да околесицу же несёшь, Никитка! Заводы Акинтия, считай, нашими руками воздвигнуты! Я в единстве проповедью своей столько работников сюды завлёк, сколько твоему капитану и во хмелю не снилось!
— Вот то-то и оно! — Бахорев надвинул треуголку на глаза. — Кажется, будто нам польза от раскола, а на деле — вред!
— Ну-ка изъяснись! — с обидой и гневом потребовал Гаврила Семёныч.
— Раскол народ в крестьянство тащит! — заявил Бахорев. — Раскольщики в леса бегут, а в лесах — не заводы: там соха деревянная да борозда кривая! Ты на полушку мужиков к домнам надёргал, а на рубль в пахоту загнал!
— От гонений народ бежит, не от проповеди моей! — прорычал Семёнов.
Савватий слушал спор и не понимал, за кем правда. Конечно, в расколе состоял Гаврила Семёныч, защитник заводов, но ведь была и Лепестинья — крестьянская исповедница, которая эти заводы прокляла.
Бахорев ревниво одёрнул камзол:
— Я вот что тебе расскажу, Семёнов… Я в Швеции горному делу учился. И тамошние лютеранцы — те же раскольники. Только они королю своему покорны, потому и живут по достоинству. Вы же государей хулите и то за доблесть почитаете. А поразмысли здраво… Вот царь Пётр — он не побоялся патриарха убрать и Синод поставить. Неужто побоялся бы он и вашему обряду место найти, ежели бы вы его не лаяли остервенело?
Гаврила Семёныч гордо распрямился.
— Тогда и я тебе скажу, Никитка, — он улыбнулся свысока. — Канон важнее царя, на то он и канон. А в гонениях любых нам спасение — токмо истовый труд. И такого труда у крестьян нет. Не нужен он на пашнях: ежели поле трижды вспашешь, то три урожая всё одно не снять. А на заводах иначе. Втрое больше руды наломаешь или железа отобьёшь — и прибыток больше втрое. Потому на заводах наша истовость — опора делу. Мы божий замысел на заводы во плоть жизни влагаем! Мы — основа заводам! И тому из нас, кто подлинно долю свою взыскует, моя проповедь — звезда Вифлеемская! Так что не заступай мою стезю. Коли глуп, не мешай заводам!
Бахорев молча развернулся и сердито пошагал к тюремным амбарам.
* * * * *
Разметённая от снега дорожка проскользнула между бревенчатой стеной острога и кирпичной стеной конторы, перескочила через главную улицу, что вела из ворот трёхъярусной шатровой башни на заводскую плотину, и вновь нырнула в ущелье между стеной острога и стенами молотовых фабрик.
— Сколько народу ты из урёмов изъял? — спросил Семёнов.
— Мужеского полу сейчас содержим двести сорок семь душ, — хмуро ответил Бахорев; у него, у механика, всё было сочтено точно.
Острожная стена состояла из больших срубов-городней, по которым сверху пролегал сторожевой ход, накрытый двускатной кровлей на столбах. В боевых крепостях городни заполняли землёй, однако в Невьянске они были пустыми — никакие осады и приступы Невьянску не угрожали, и потому уже давным-давно городни использовали как магазейны — заводские амбары, где хранили приготовленное к вывозу железо. А сейчас это железо вытащили наружу под временные навесы из еловой коры, и в срубах сидели пленные раскольники, выловленные солдатами на Весёлых горах. Амбары охранял караул из пары солдат; караульные грелись у костра и курили трубки.
— Не совестно ли тебе людей без вины утеснять и терзать? — спросил Гаврила Семёнов у Бахорева. — Божий страх-то сердце не холодит?
Савватия давно уже мучил тот же самый вопрос.
— Разве я до оного довёл? — недовольно ответил Бахорев.
Гиттен-фервальтер, то есть заводоуправитель, по чину равный поручику, Бахорев исполнял и воинские офицерские обязанности. Татищев назначил его командовать «выгонкой». Под началом Бахорева состояли поручики Арефьев, Костыгин и Сикорский. Эскадроны драгун из Горнощитского ретраншемента и лыжные отряды тобольских солдат обшаривали заваленные сугробами таёжные урочища Весёлых гор от Невьянска до пристани Сулём.
Это было междуречье Утки и Чусовой — глухой угол, вздыбленный крутыми хребтами. Здесь стояли скиты староверов, по еланям рыскали волчьи стаи и спали в берлогах медведи; здесь в изломанных скалах таились вогульские демоны, а непролазные буреломы заселила всякая лешачья нечисть, которую беглые раскольники приволокли за собой с Руси. Воинские отряды разоряли и сжигали скиты и перегоняли пленных в Невьянск, а оттуда в Екатеринбург; мужики брели по снегам со связанными руками, а бабы шли сами — тянули на салазках детишек и стариков. Вдоль горных круч плыл синий дым пожарищ, на обочинах вытоптанных проторей коченели тела замёрзших насмерть людей. А на казённом Уктусском заводе день и ночь стучали в кузницах молотки — это ковали кандалы для тех, кто уцелел.
— Вероломство твоего капитана в беду нас опрокинуло, — сказал Гаврила Семёныч Бахореву. — А ты — цепной пёс у своего Навуходоносора.
Гаврила Семёныч имел в виду разговор, что ещё весной состоялся у Татищева с раскольничьими приказчиками. Приказчики просили нового командира в обмен на удвоенное обложенье дать их собратьям законное место при хозяйских заводах. Именно тогда приказчики и попытались всучить взятку Татищеву: Набатов и Осенев совали ему по две тысячи, а Степан Егоров — сразу десять. Татищев мзду отклонил, однако же снизошёл до мирной беседы и пообещал своё заступничество пред государыней. И приказчики, будто деревенские дурачки, размякли — рассказали горному начальнику о четырёх тайных пустынях Весёлых гор. Летом от Татищева на Весёлые горы уже поехал офицер-переписчик.
— Всё у Василия Никитича добром шло! — огрызнулся Бахорев. — Это ты, Семёнов, гордыней дело поломал!
Бахорев был прав. При генерале де Геннине Гаврила Семёныч привык, что его уважают; он не поверил спесивому Татищеву, который и не думал держать своих конфидентов в известности о долгом пути его прошения по канцеляриям императрицы и Синода. Гаврила Семёныч решил, что затея Татищева провалилась, значит, ему самому надо отправить письмо в столицу. И он написал такое письмо. Промемория получилась дерзкой. Дескать, оставь нас, государыня, при заводах и дай вести службу нашим попам, тогда мы признаем тебя и заплатим двойной налог. Гонец умчал бумагу в Питербурх.
Это случилось в сентябре. И уже в ноябре грянул ответ императрицы: устроить «выгонку», сжечь все скиты, изловленных беглецов сдать горным властям, а упорствующих в ереси разослать по обителям Сибири на покаяние — то есть на погибель. Понятно было, что царица взбеленилась, ведь холопы посмели торговаться с ней за присягу! Татищев прижал уши и кинулся исполнять указ. Таёжные глухомани взрыла кровавая и огненная «выгонка».
Гаврила Семёныч ничего не возразил Бахореву, лишь сильнее надвинул скуфейку на косматые брови. Метель трепала его бороду.
Тюремные амбары в острожной стене, разумеется, стояли запертыми — их широкие двойные двери были перекрыты засовами из брусьев. Два караульных солдата в заиндевелых епанчах топтались у большого костра, огороженного сугробом, как бруствером; ветер ерошил и вздымал огонь.
Бахорев подтянул к себе Савватия.
— Мастер своего беглого подмастерья среди пленных разыскивает, — пояснил Бахорев караулу. — Пособите-ка ему, братцы.
В амбаре было сумрачно, тесно, холодно и зловонно. В грязных ворохах соломы и гнилого сена сидели раскольники — они сбились в кучу для тепла. Бахорев сморщился, достал платок и зажал нос. Караульные торчали в проёме входа, в руках у них были ружья с воткнутыми в стволы острыми багинетами. Савватий не знал, с чего начать, но вперёд шагнул Семёнов.