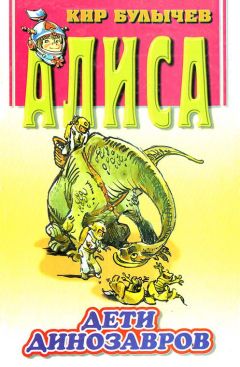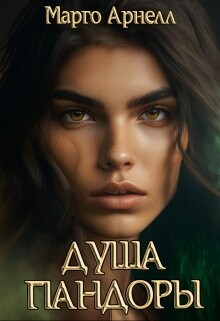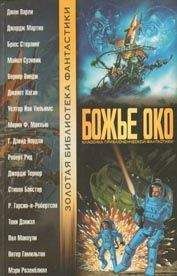Явье сердце, навья душа (СИ) - Арнелл Марго
Погруженная в омут мыслей Яснорада неторопливо вышивала. Иринку же ничуть не беспокоило, что ей не торопятся отвечать. Выложив последние вести, она, радостная, будто обновленная, упорхнула.
В трапезной Яснорада оказалась рядом с Настасьей. Когда раздался хрипловатый голос, Яснорада вздрогнула — настолько не ожидала, что та с ней заговорит. Она, признаться, побаивалась острой на язык невесты Полоза. Дерзкая, смелая, Настасья не боялась перечить даже Драгославе, в то время как другие заискивающе заглядывали в глаза и не скупились на льстивые фразы.
Впрочем, если верить Иринке, в какой-то момент благосклонность многих невест Полоза оказалась не на стороне Драгославы. Как флюгер на крыше следует за ветром, так и они — за теми, кто сильней. Все чаще невесты Полоза стали присаживаться рядом с царевной Марой. Заводили беседу, расточали приветливые улыбки. Драгослава злилась, ее твари получались красивыми, но… мертвыми. Стояли, словно статуи, сколько ни пыталась Драгослава вдохнуть в них жизнь, заставить их дышать и шевелиться.
Когда Иринка рассказывала об этом, Яснораде почудилось скрытое в ее голосе торжество.
Однако каждую из невест — кого раньше, кого позже — оттолкнула холодная отстраненность Мары. Беловолосая царевна никогда не улыбалась и не торопилась поддерживать беседы, не говоря уж о том, чтобы самой заводить. А если спрашивали о чем, отвечала коротко и односложно.
Поджав хвосты, невесты Полоза вернулись к торжествующей Драгославе. Но она помнила, как была слабой в их глаза. Как загодя, но проиграла. И память эта наполняла ее взгляд ледяной яростью.
— Тебе никогда не чудилось, что с рекой нашей что-то неправильно? — спросила Настасья.
— Ты про Смородину? — осторожно отозвалась Яснорада.
Еще бы не заметить: в реках Яви вода не источает жар, не раскаляет докрасна перекинутый через них мост.
— Смородина? — нахмурила густые брови Настасья. — Я про речку, что течет неподалеку от дворца.
— Нет. Ничего странного не замечала.
Настасья смотрела прямо перед собой. Светлые, с медным отблеском волосы крупными кудрями падали на грудь и спину.
— Что-то на дне будто меня зовет. Невидимое, так и шепчет. Я тяну руку, по дну шарю, а там и нет ничего.
У Яснорады от слов Настасьи и тягучести ее голоса морозец пробежал по коже.
— Прости.
Она и впрямь чувствовала себя виноватой. Что к ней обратились, а она не смогла помочь.
— Ничего, — с отрешенной полуулыбкой сказала Настасья.
— Почему ты мне это говоришь?
— Ты сама странная. — Невеста Полоза извиняюще улыбнулась, пусть ее слова не звучали ни издевкой, ни упреком. — Значит, не осудишь. И я думала, раз ты — дочь ведьмы, может, знаешь что-то…
«Знаю, — с горечью подумала Яснорада, — но моя правда тебе не нужна».
Остаток дня они просидели рядом, но больше не говорили.
С той поры начали невесты Полоза шептаться о Настасье, как прежде о Яснораде, ведьме-неумехе, шептались. И если Яснорада поначалу, пока духом не окрепла, вжимала голову в плечи, Настасья, заслышав шепотки, перекидывала толстую русо-медную косу на грудь и гордо вскидывала голову. А если кто донимал, зыркала грозным взглядом. Голоса тотчас замолкали.
Иринка, которая язык за зубами держать не умела, поведала, о чем шепчутся невесты Полоза — хоть Яснорада о том и не просила. Дескать, у берега Настасья стоит, да на воду часами смотрит. Яснорада в ответ только плечами пожала — мало ли какие у людей причуды? За Настасью она не беспокоилась, не боялась, что та бросится в воду.
Если ты мертвый, то не можешь стать еще мертвей.
Глава восьмая. Колдунья Маринка
Мара наблюдала за невестами Полоза из-под ресниц, словно припорошенных инеем. Как они беседуют друг с другом, как смеются, как обмениваются улыбками. Что заставляло их менять свои лица? Какой интерес они находили в том, чтобы любезничать с другими? А обмениваться колкостями? А говорить о ком-то другом за глаза?
Маре хорошо было наедине с самой собой. Спокойно. И если Морана учила ее рукоделию и всем известным наукам, то другие, выходит, и вовсе были ей не нужны.
Даже общества Кащея — своего отца, пусть и не создателя — она не искала. Тот же и вовсе сторонился людей. Не любил их и без надобности не желал видеть.
Будучи царевной, Мара могла входить в те палаты, что прятались в подземельях дворца. Там, где Кащей и пропадал. Поначалу она просто шла туда, куда идти ей велела Морана. Делала то, что мать говорит. Но со временем ею стало овладевать нечто странное… некое зовущее чувство. Подчиняясь ему, однажды Мара добралась и до подземных сводов дворца.
Странная ее глазам предстала картина. Кащей стоял посреди залы, засыпанной золотыми монетами. Просто стоял, опустив голову на грудь и — в блаженстве или изнеможении — прикрыв глаза. Казалось, он был статуей, пусть и отлитой из иного металла, чем то, что окружало его.
Ведомая все тем же зовом, Мара приходила в подземелья еще не раз. Никогда не окликала Кащея, никогда не заговаривала с ним. Просто наблюдала. Не найдя ответа сама, спросила Морану: что влечет ее супруга и царя в подземелья? Раз за разом, день за днем? Царица помрачнела.
— Колдуньи говорят, на него наслано проклятье, которое никому не под силу развеять. Может, и есть в том крупица истины, а может, истина в том, что воля Кащея слаба.
— Воля? — переспросила Мара.
Морана поморщилась. Помолчала.
— То солнце, что ты видишь за окнами дворца — тусклое, безжизненное — лишь отголосок, эхо настоящего солнца.
— Что значит «настоящее» солнце?
— То, что навеки сокрыто для нас в мире живых. — Царица роняла слова тяжело, словно камни. — Знаешь, почему в нашем дворце так много золота? Они — отлитые в металл солнечные лучи. Их сотворили особого рода искусницы. Те, что умеют переступать ту грань, которая для меня, для Кащея и для многих, многих других превращается в неприступную стену. Они сохранили для нас живое солнце.
Глаза Мораны потемнели, лицо исказила странная гримаса, уродующая красивые, почти совершенные черты.
— Это все, что нам осталось, — прошипела она.
Мара смотрела на царицу во все глаза, пытаясь понять, разгадать ее загадочные речи. Казалось, та говорила с ней на языке чужой земли. Миг, и ярость на лице Мораны сменилась спокойствием. Ледяной обжигающий ветер — штилем.
— Золото, что его окружает, вдыхает в Кащея жизнь. Без него он слабеет, чахнет. Вот отчего он так им одержим.
— Но твои палаты серебряные, — медленно произнесла Мара.
Морана горделиво вскинула подбородок, тряхнула черной копной.
— Кто-то назвал бы это смирением. Я не согласна. Это лишь благоразумие.
— Не понимаю, — призналась Мара.
И эта невозможность понять вызывало в ней еще одно, неизведанное прежде, чувство. То, от которого в груди словно что-то вскипает. То, от чего руки сами собой на миг сжимаются в кулаки.
Морана едва ли видела, что происходит с ее дочерью. И все же попыталась объяснить.
— Кащей упрямо цепляется за то, чего уже не вернуть. Он тянулся к миру старому, чах на глазах… даже золото излечить его душу оказалось не способно. Все эти рубахи да кафтаны, меха да сукно, терема да избушки, береста да гусли… Все это я создала для него, для драгоценного своего супруга. Кащей не знает другого времени и не желает знать другого мира. Как его жена, я потакаю ему в этом. — Царица усмехнулась. — Однако не во всем. Он отчего-то не слишком любит зверей, оставленных по ту сторону. Этим я и воспользовалась. Я населила наше царство созданиями, сотворенными из земли холодной и мертвой, из камней, острых граней и шипов. Даже растения на этой земле рождаются, уже будучи мертвыми.
— Зачем? — хмурилась Мара.
— Потому что это делает меня сильней. Кащей черпает свои силы в жизни и солнце, я — в смерти и холоде. Холода, правда, так мало… — вздохнула Морана. Подалась вперед, к дочери, ладонью коснулась белоснежной и холодной щеки. — Зато смерти вдоволь.