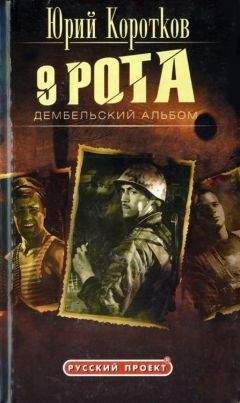Вера Камша - От войны до войны
– Что погнало правнука Флохова в ночь?
– «Истинники», – выдохнул Робер. – Мне пришлось отдать им браслет М… мммм, под ним ничего не было.
Он рассказал все, умолчав лишь о своей любви, но о ней он не сказал бы даже Создателю. Гоган слушал, слегка наклонившись вперед и перебирая холеную бороду.
– Неисповедима воля Кабиохова, – Енниоль казался задумчивым, но спокойным, – не было средств снять клеймо, но оно снято. Блистательный свободен, это так, но кто его освободил? Первородный? Сила Флохова? Или же отмеченный мышью?
Достославный замолчал, длинные желтоватые пальцы легко поглаживали кончик бороды. Женщина на кровати не шевелилась, свеча догорела, и Робер зажег другую. Огонек показался странно алым, закатное пламя на мгновение залило комнату кровью и погасло. Эпинэ вздрогнул и выронил огниво.
– О чем ты подумал? – голос Енниоля прозвучал как-то странно.
– О закате…
– Иногда вернувшиеся с порога обретают дар предвидения, – гоган не казался ни удивленным, ни испуганным, – если сын моего отца больше не встретит блистательного, он должен призвать на голову его благословение Кабиохово.
– Я благодарен правнукам Кабиоховым…
А ведь они прощаются, хотя все живы и здоровы и нет никакой войны. Во имя Астрапа, что ж такое творится в Агарисе? Что творится во всех Золотых землях?
2Холодные капли на лице. Дождь? Откуда? Где она?! Сквозь густые ветки виднелось зеленое предрассветное небо. Мэллит пошевелилась, и на нее обрушился поток холодной воды. Роса! Девушка торопливо вскочила, оцарапавшись о колючки. Барбарисовый пустырь! Как она сюда забралась?
Последним, кого заметила Мэллит, был стройный молодой парень в странном платье. Он не походил ни на призрачное лунное чудовище, которым ее пугали в детстве, ни на грабителя, ни на шпиона. Просто стоял на перекрестке и кого-то ждал. Наверное, пришел на свидание, а его обманули. Она и сама так ждала, до последнего надеясь на то, что любимому удастся вырваться.
Будь это в другом месте, Мэллит спокойно бы пробежала мимо, но случайный прохожий от скуки мог за ней проследить. Все гоганские жилища имеют тайный выход, и нет преступления перед семьей страшнее, чем выдать его чужакам. Первородный несколько раз спрашивал, как ей удается покидать дом, но она не открыла тайны даже ему.
Девушка кое-как привела в порядок одежду. Какая она глупая и что это на нее нашло! Наверное, она заболела. Еще рано – в доме все спят, если поторопиться, она проберется к себе и ее никто не заметит. На улицах пусто, ночные сторожа и гуляки уже ушли, торговцы еще не проснулись. Мэллит несколько раз вздохнула полной грудью. Боли не было, только какая-то тяжесть, тяжесть и холод, но это от росы. Одежда отсырела, вот и все.
От пустыря до переулка она добралась очень быстро. На углу никого не было – ночной прохожий, разумеется, давно ушел. На всякий случай гоганни оглянулась. Никого! Только бы обошлось, только бы ее не заметили! Никогда еще Мэллит не возвращалась так поздно, но она успела! В доме было тихо, значит, отец отца еще не призывал возблагодарить Кабиоха и детей Его. Девушка скользнула в свою комнату, сбрасывая на бегу отсыревшие франимские тряпки – прятать одежду в подвале не было времени. Она совсем помешалась – уйти из дома обычной ночью…
Дочь Жаймиоля присела у четырехугольного зеркала и принялась расчесывать волосы. Раньше она это ненавидела, но в последнее время отражение в посеребренном стекле перестало вызывать отвращение. Первородные называли ее красавицей, и гоганни начинала им верить. Талигойцы были другими, не похожими на ее соплеменников, они иначе одевались, ходили, говорили, и они любили других женщин. Не таких, как ее сестры! Мэллит разбирала прядь за прядью, только бы волосы успели высохнуть, прежде чем к ней войдут. Конечно, никто не догадается, в чем причина, но лишняя ложь повисает на шее каменными жерновами.
Раздался колокольный звон, призывая верующих к молитве, и удивленная Мэллит выронила гребень. Девять часов, а отец отца еще не поднялся! Неужели ему стало плохо? Недавно сестры говорили о печальной судьбе достославного Халлаоля. Вечером он поднялся в свою спальню и утром не вышел. Когда сын осмелился войти в комнаты отца, тот был мертв, а ведь приди помощь вовремя, его могли спасти.
Девушка не колебалась. Пусть ее обвинят в непослушании, она пойдет и посмотрит. Мэллит кое-как стянула волосы на затылке, выскочила из комнаты, на цыпочках пробежала по коридору и раздвинула занавес. Отец отца в своей постели не спал. Если ему стало плохо, то не у себя. Где же он? В кладовых, в комнате размышлений, в алтарном чертоге?
Спящий дом ночью был привычным и знакомым, пустые, пронизанные солнечным светом коридоры казались мертвыми. Родичи тихо сидели по своим спальням, Робер назвал бы их коровами и был бы прав… Мэллит спустилась к алтарному чертогу. Входной занавес, как и подобает, был опущен, гоганни откинула тяжелую материю, заглянула внутрь и закричала. Крик разнесся по всем уголкам замершего дома. Никто не отозвался, но Мэллит не поняла ни то, что кричит, ни то, что ее не слышат. Судорожно вцепившись в занавес, дочь Жаймиоля смотрела на четырехгранную пирамиду, словно бы вырезанную из саграннского гематита.
На отливающих черным металлом гранях красовались трещины, похожие на странные символы, и еще из них вырастали оскаленные кошачьи морды и тянулись вперед когтистые лапы. Рядом с оскверненной арой лежал отец отца, по искаженному лицу, неловко вывернутой руке, черно-желтому одеянию плясали солнечные зайчики. Больше в комнате не было никого и ничего, лишь на полу в нескольких местах виднелись какие-то пятна, словно от высохших лужиц не очень чистой воды.
3Странно, но Робер совсем не чувствовал усталости, словно не было бессонной ночи, начавшейся в торквинианском кубле и закончившейся на улице Милосердного Аврелия. Спать не хотелось, хотелось вскочить на коня и помчаться галопом вслед за солнцем. Заботы и тревоги куда-то делись, Эпинэ позабыл и о проклятых тайнах, и о своей собственной весьма незавидной участи; талигоец не сомневался, что все образуется и в конце концов все будут счастливы и он тоже. Единственное, о чем жалел Иноходец, это о том, что природа напрочь лишила его слуха, а ему так хотелось петь.
С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать во всю глотку кагетскую песенку об улыбающейся солнцу фиалке, Робер Эпинэ вышел на площадь Единорога, откуда до дома Матильды было рукой подать. Расставаться с летним солнцем и синим небом не хотелось, но Эпинэ вспомнил о голодающем Клементе и ускорил шаг, однако первым Робера встретил не Его Крысейшество, а сюзерен.