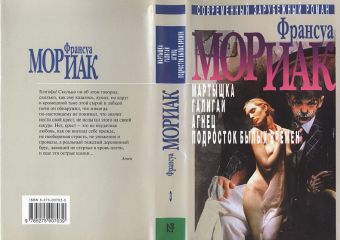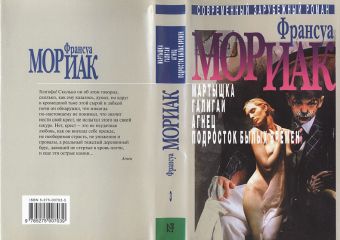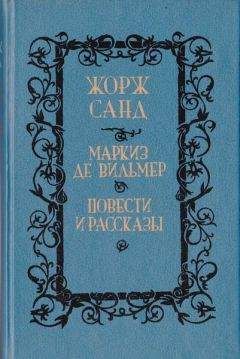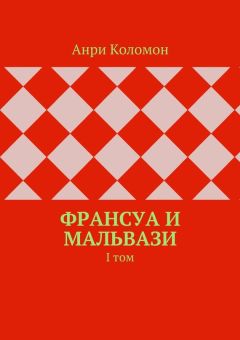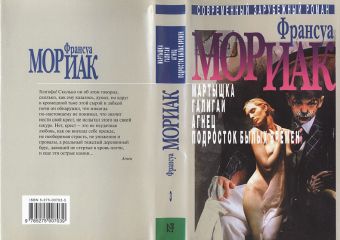Ольга Михайлова - Замок искушений
Где была эта грань его понимания? Почему она то выплывала и становилась отчетливей, то таяла, терялась? Почему он стыдился только уже содеянного, но творил его всегда без малейшего содрогания? Он словно находился в разных измерениях. Но что заставляло его менять оценки? Почему, ну почему, решив рассчитаться с Лоретт, он зло и бездумно сделал это — и почему на следующий день уже не мог понять, что заставило его так поступить? Будь всё проклято. «Если ты понимаешь, что ты мерзавец — перестань им быть. Те, кто сделали его тем, что он есть, ответят за это, ибо живёт Бог, но если он не пытается излечиться — пусть никого не винит…»
Голос Элоди странно отзывался в его ушах.
Что значит — перестать быть мерзавцем? Это значит, сразу стыдиться. Не содеянного, а того, что только мог бы совершить. Сразу понимать, что срываться и осквернять несчастную глупую девчонку — недостойно мужчины, что подло совращать дурочек, которых наутро намерен оставить, что поднимать оружие против старика-отца, вступившегося за поруганную честь дочери, низко… Почему он не мог этого? Франсуа? Этьенн почувствовал спазм в горле.
Да, вот что такое честь. Понимание и отторжение от себя мерзости до её совершения. Восприятие помышления как свершения. Стыд мерзкого помышления. Вот что у него отняли.
Но она говорит, что можно перестать быть негодяем? Может ли он сразу понимать, что хочет совершить мерзость?
Этьенн ощутил прикосновение к лицу чего-то прохладного и, с трудом разомкнув глаза, увидел Армана, вытирающего пот с его лба. Ему стало чуть легче. Он бросил больной взгляд на Клермона. Рядом с ним был человек, которого выбрала какая-то странная, незнакомая ему часть его души и влекла к нему, бездумно бросившемуся спасать его, временами удивлявшего наивностью, а иногда — и это он теперь понял — поразительной прозорливостью суждений.
Этьенн благодарно сжал запястье Армана.
Господи, но ведь даже его он был готов хладнокровно растлить. Бездумно и бесчувственно. И уже тогда, когда сам понял, что принесло растление ему самому. Он готов был невозмутимо предать того, кто спас ему жизнь — когда этого потребовали его интересы. Да, честь надо убрать… Этьенн гневался на предавшего его дядю — но разве он не предал… точнее, не был готов спокойно предать Клермона? Он несколько озаботился безопасностью его жизни, но разве Франсуа не сделал то же самое? Растлить — значит, убить. Где было его понимание?
— Простите меня, Арман, — губы почти не слушались Этьенна, — я виноват перед вами, это я просил Сюзанн совратить вас…
Клермон пожал плечами. Это искушение было пустым и кроме паскудного сновидения, ничем не запомнилось.
— Это пустяки, Этьенн. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?» А вы… вы простили дядю?
Граф вяло и утомлённо махнул рукой. Простил ли он? Да. Он так хотел сохранить о нём теплые воспоминания, что подлинно не хотел вспоминать то зло, что ему причинили. Теперь он осознал это зло, но Господь с ним… Этьенн не хотел держать зла на Франсуа. Ему, видимо, тоже пришлось пожать свой скорбный урожай понимания, и если ему сейчас столь больно, то каково было Франсуа? Сколько муки в его письме… Да. Он прощает.
Но что произошло с Сюзанн? Почему? Перед глазами Этьенна снова поплыло вязкое марево. Сюзанн. Сестра. Не было случая, чтобы она отказалась выслушать и понять, и он понимал, что она… она любила его. Мой Бог, ещё вчера у него были два человека, которых он любил, любил — «ничего не ища своего»… Это была та любовь, о которой говорила Элоди… подлинная… Сюзанн, малышка, где ты? У него не было сил, Этьенн чувствовал, что должен что-то сделать, но совсем обессилел, он сейчас справится с собой, просто чуть отдохнет и встанет… Сюзанн…
Теперь к Элоди пришло окончательное понимание непонятной ей склонности Клермона к этому человеку. Она не воспринимала и не могла воспринять его любовь, — просто убедила себя в том, что в такой душе не может быть ничего подлинного, но сейчас была изумлена — и рассказом Клермона о письме дяди Этьенна, и скорбью несчастного о гибели сестры, совсем сломившей его. Он… способен любить и чувствовать. Это открытие повлекло за собой ряд сумрачных мыслей, самой светлой из которых была мысль о правоте Армана. Прав был и отец Легран… «Причина ваших бед в недостатке любви, ибо такова причина всех бед мира. Надо любить всякого человека, видя в нём образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей… Исцелить человека можно только любовью. Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы Вселенной…»
Этьенн показался ей теперь несчастным и больным существом, нуждающемся в любви, заботе, опеке.
Глава 23. В которой его светлость делится с присутствующими некоторыми размышлениями, в которых ложь почти неотделима от истины, однако, кое-кому удается сделать из них выводы, более близкие к истине, чем ко лжи
Сам Клермон, прочитав письмо дяди Этьенна, был гораздо больше удивлён последними строками письма, нежели всем остальным. Дядя извещал племянника, что никакого родственника в Гренобле у них нет. Сам Этьенн, и он видел это, почти не обратил внимание на это обстоятельство — слишком больно ударило его предсмертное признание дяди. Но как же так? Неужели его смутные подозрения верны?
Этьенн был не в том состоянии духа, чтобы ответить на эти вопросы.
Арман сразу по приезде по словам Сюзанн понял, что брат и сестра Виларсо де Торан видели его светлость впервые, а дядя в письме вовсе отрицает какое-то знакомство и родство с этим человеком. Кто он? Но герцог де Шатонуар — личность, известная в Париже. Ведь о нём говорил и де Фонтейн… Зачем же он пригласил людей, с которыми не состоял в родстве, к себе в гости? Человек, который знает его род на память от короля Франциска, не может заблуждаться в отношении собственного родства… Было и ещё нечто странное, что всегда томило его в присутствии этого человека. Что? Та непонятная тоска, тоска смутного постижения чего-то, что не доходит до сознания, тоска гнетущая и саднящая душу, заглушаемая рассудком, но то и дело интуитивно проступающая…
Но эти мысли могли разве что отвлечь Клермона от ещё более горестных помышлений. Этьенн был обессилен и почти парализован, и транспортировку трупа Сюзанн пришлось взять на себя Арману и Дювернуа. Мажордом и егерь помогали. Огюстена трясло, как в лихорадке, он едва мог удержать конец покрывала, в которое завернули обугленный труп. Этьенну не померещилось — обугленные руки, и вправду, отделились от тела. Клермон неожиданно заметил, что мсье Гастон и мсье Камиль держат покрывало едва сжимая руки, между тем им с Дювернуа приходилось напрягаться едва ли не из последних сил, тело было до странности тяжелым.