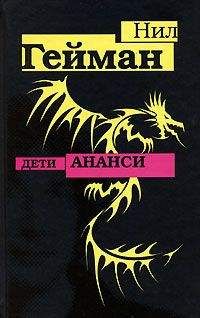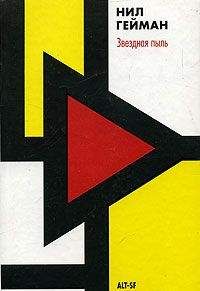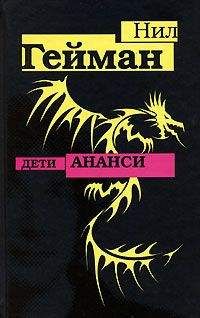Нил Гейман - Сыновья Ананси
Она открыла дверцу холодильника и налила в высокий стакан апельсинового сока.
Мать Рози прочистила горло. Правда, звук получился не такой, какой бывает, когда прочищают горло. Звук получился такой, будто на пляже перекатывается галька.
– Привет, – сказала Дейзи. – Я Дейзи.
Температура на кухне резко понизилась.
– В самом деле? – спросила мать Рози. С последнего слога «ле» свисали сосульки.
– Вот интересно, как бы называли апельсины, – сказал Толстяк Чарли в наступившей тишине, – если бы они не были апельсинового цвета. В смысле, если бы были какие-нибудь прежде неизвестные фиолетовые фрукты, как бы их называли, фиолеты, что ли? А мы бы пили фиолетный сок?
– Что? – спросила мать Рози.
– Ей-богу, ты бы послушал, что несешь, – весело сказала Дейзи. – Ладно, пойду, поищу свою одежду. Приятно было познакомиться.
Она вышла. Толстяк Чарли все еще не дышал.
– Кто, – очень спокойно сказала мать Рози. – Это. Такая.
– Дво-стра, – сказал Толстяк Чарли. – Двоюродная. Сестра. Но она мне как родная. Вместе росли. Вдруг решила тут вчера переночевать. Она у нас немного дикарка. Вот. Да. Вы и на свадьбе ее увидите.
– Я размещу ее за столиком «h», – сказала мать Рози. – Там ей будет удобней.
Она произнесла это таким тоном, каким обычно говорят фразы вроде: «Желаешь умереть сразу, или позволить Монго немного с тобой позабавиться?».
– Отлично, – сказал Толстяк Чарли. – Ладно, – сказал он. – Приятно было повидаться. У вас, – сказал он, – наверняка еще куча дел. И, – сказал он, – мне пора на работу.
– Ты вроде взял отгул.
– На утро. Я взял утренний отгул, и он почти закончился. И мне пора на работу, так что пока.
Она схватила сумочку и встала. Толстяк Чарли прошел за ней в прихожую.
– Рад был видеть вас, – сказал он.
Она моргнула, как мог бы моргнуть перед атакой мигающий питон, если бы у него были веки.
– До свидания, Дейзи! – крикнула она. – Увидимся на свадьбе!
Дейзи – в трусиках и лифчике, натягивающая футболку, – выглянула в коридор.
– Всего доброго, – сказала она и вернулась в спальню Толстяка Чарли.
Спускаясь с Толстяком Чарли по лестнице, мать Рози не сказала больше ни слова. Он открыл ей дверь и, пропуская вперед, заметил на ее лице нечто ужасное, нечто такое, от чего желудок у него скрутило еще сильнее: он увидел, что сделала мать Рози со своим ртом. Уголки его были приподняты и застыли в жуткой гримасе. Словно у черепа с губами. Мать Рози улыбалась.
Он закрыл за ней дверь и замер в прихожей. Его трясло. Потом, как человек, идущий на электрический стул, он поплелся вверх по ступенькам.
– И кто это был? – спросила Дейзи, уже почти одетая.
– Мать моей невесты.
– Воплощенная жизнерадостность, скажи?
Тут он заметил, что она одета, естественно, в то же платье, что и накануне вечером.
– Ты так на работу пойдешь?
– О боже. Нет, поеду домой и переоденусь. Во всяком случае, в таком виде я на работу не хожу. Ты не мог бы вызвать такси?
– А куда тебе?
– В Хендон.
Он позвонил в местный таксопарк, а потом сел на пол, представляя себе вероятные сценарии, все совершенно невероятные.
Кто-то встал рядом.
– У меня в сумочке есть витамин В, – сказала Дейзи. – Или пососи ложечку меда. Мне никогда не помогало, но моя соседка по квартире говорит, что с похмелья ей просто чудо как помогает.
– Дело не в этом, – вздохнул Толстяк Чарли. – Я сказал ей, что ты моя кузина. Чтобы она не подумала, что ты, то есть, что мы, то есть, что ты, типа, незнакомая девушка у меня дома, и все такое.
– Кузина? Ну, не переживай. Она наверняка обо мне забудет, а если нет, скажи ей, что я внезапно исчезла из страны. Ты меня больше не увидишь.
– Правда? Обещаешь?
– Вовсе не обязательно так этому радоваться.
С улицы донесся сигнал автомобиля.
– Это мое такси. Встань и попрощайся.
Он встал.
– Не переживай, – сказала она. И обняла его.
– Думаю, мне конец, – сказал он.
– Нет, не конец.
– Я обречен.
– Спасибо, – сказала она. И потянулась к нему, и поцеловала его в губы, поцелуем более долгим и крепким, чем это допустимо при таком недолгом знакомстве. А потом она улыбнулась, весело сбежала по ступенькам и выскочила на улицу.
– Этого, – громко сказал Толстяк Чарли, когда дверь закрылась, – на самом деле не было.
Он все еще ощущал вкус ее губ: апельсиновый сок и малина. Это был поцелуй. Настоящий поцелуй. В нем чувствовалось нечто необычайное, такое, чего Толстяк Чарли никогда еще не испытывал, даже с…
– Рози, – сказал он.
Он щелчком открыл телефон и соединился с ее номером быстрым набором.
– Вы позвонили Рози, – сказал голос Рози. – Я или занята, или снова потеряла трубку. Перезвоните мне на домашний или оставьте сообщение после звукового сигнала.
Толстяк Чарли захлопнул телефон, накинул поверх спортивного костюма куртку и, щурясь от яростного дневного света, выбежал на улицу.
* * *Рози Ной беспокоилась, и это ее беспокоило. И хотя она не всегда признавалась в том самой себе, как и во многих других вещах, из которых состоял мир Рози, она заранее была уверена, что тут виновата ее мать.
Рози привыкла к миру, в котором мать ненавидела саму идею о том, чтобы выдать дочь за Толстяка Чарли Нанси. Она принимала сопротивление матери своему браку как знак свыше, указывавший на то, что она, возможно, поступает правильно, даже когда сама была не вполне уверена, что это так.
Конечно, она его любила. Он такой цельный, надежный, разумный…
То, что отношение матери к Толстяку Чарли изменилось, обеспокоило Рози, а внезапный энтузиазм, с которым та взялась за организацию свадьбы, глубоко встревожил.
Она звонила Толстяку Чарли накануне вечером, чтобы об этом поговорить, но он не ответил ни по одному из телефонов. Рози решила, что, возможно, он лег пораньше спать.
Вот почему она пожертвовала обеденным перерывом, чтобы с ним встретиться.
Агентство Грэма Коутса занимало верхний этаж серого викторианского здания в Олдвиче и находилось на высоте пяти лестничных маршей. Лифт, впрочем, был – его установил сто лет назад театральный агент Руперт «Бинки» Баттерворт. Это был чрезвычайно маленький, медленный, трясучий лифт, чей дизайн и чье назначение можно понять лишь узнав, что Бинки Баттерворт, обладавший размерами и формами юного, но дородного гиппопотама, способного втискиваться в тесные пространства, спроектировал его для того, чтобы в нем помещались – в тесноте да не в обиде – он сам и еще один человек, куда более стройный – девочка из хора, например, или мальчик, Бинки был непривередлив. Все, что нужно было Бинки для счастья, – это попасть с кем-нибудь, кому нужен театральный агент, в тесный лифт, чтобы отправиться в очень медленное и зыбкое путешествие на пять этажей вверх. Частенько случалось, что к моменту прибытия лифта на верхний этаж Бинки был столь изможден тяготами подъема, что ему приходилось ненадолго уйти и прилечь, оставив девочку или мальчика дожидаться непонятно чего, в тяжких переживаниях по поводу раскрасневшегося лица и судорожного дыхания Бинки на последних этажах, которые являлись симптомами ранней эдвардианской эмболии[23].