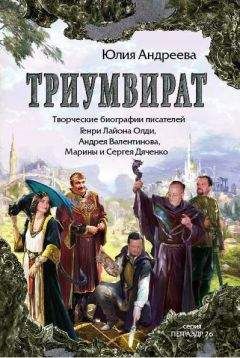Сильные - Олди Генри Лайон
А действительно, что я делаю?
– Рад тебя видеть, Юрюн, – произносит отец.
– К тебе можно?
– Можно.
Все, как обычно. Лавчонка для меня. Чорон с кумысом для папы. Молчание для двоих. Как спросить? С чего начать? Кустур, когда собирается клянчить у матери еду, размышляет: как подкатиться? Пусть колесо катится, или Кустур, а я не хочу. Вчера уже к маме подкатился, до сих пор под ложечкой ёкает.
«Вот, – говорю, – мама, я у тебя родился…»
Она улыбается.
«Вот маленькая Айталын Куо у тебя родилась…»
Она улыбается.
«Вот Мюльдюн-силач: большой, красивый…»
Она улыбается. Радуется моим словам.
«Вот, – гну дальше, – Умсур у тебя первой родилась. Умница, шаманка…»
На кухне светло-светло. Вечер, солнце село за утесы, а светло. Когда мама радуется, в доме всегда полно света. В самых темных закоулочках, под лестницей, в чулане – всюду.
«И вот я думаю, мама…»
«О чем, Юрюнчик?»
«Было бы хорошо, если бы у тебя еще кто-нибудь родился. Ну, не сейчас, а раньше. И тебе хорошо, и папе, и мне. Так у меня один старший брат, а так было бы два…»
Сначала мне почудилось, что я ослеп. Темнота кругом, не видно ни зги. Нет, видно, а всё равно темнота. Свет погас, улетучился. И мама плачет. Тихо, жалко, без слез. Вот вы спроси́те, как я понял, что она плачет, если тихо и без слез? Вот спроси́те, да? Ну вас в болото с вашими вопросами! Откуда я знаю?!
«Мам, ты чего?»
Плачет.
«Мам, не надо, а? Я ж вообще…»
Плачет.
Я даже обернулся: может, мертвый Омогой подскажет, что делать? Нету Омогоя, сбежал. Тут любой сбежал бы, честное слово.
«Мам, я тебя люблю…»
«Я тебя тоже люблю, Юрюнчик. Очень-очень люблю.»
Все, не плачет. Просто не светится больше, а так ничего.
«Я пойду, мама?»
«Ты кушать хочешь?»
«Нет.»
«Ты растешь, тебе надо много кушать.»
«Я не голодный. Я пошел, хорошо?»
Она кивает: хорошо. А я-то вижу: ничего хорошего.
Вот, сижу у отца, и думаю: вдруг она там опять плачет? Знаете, так хочется всё забыть! Чтобы Омогой живой, и мама улыбается, и Мюльдюн вернулся в улус попозже, завтра или послезавтра… Наверное, я заболел. Простудил голову, теперь маюсь. Мечтал, чтобы Мюльдюн поскорее приехал, а теперь что? Про Кузню, и ту забыл.
– Пап, мы вчера с Кустуром заспорили…
Отец молчит. Я ему в лицо заглянул: слушает. Ну, наверное, слушает.
– Он говорит, в семье друг про друга всё знать должны. На то и семья. Правильно?
– Старшие про младших, – уточняет отец.
– А младшие про старших?
– Младшим не всё полезно знать. Передай это Кустуру от меня.
Уши горят. Щеки горят. Не умею я врать! Я Кустура и не встречал со вчерашнего. А вру: спорили… И кому вру? Родному отцу!
– Ага, передам. Хорошо, друг про друга – не всё. Если младшие про старших, и не полезно. А просто друг друга? Друг дружку в семье все знать должны?
Это я хитро придумал. Сейчас сбоку зайду.
– Да, – кивает отец. – На то и семья.
– Я тоже Кустуру сказал: семья, мол. А он спорит! Мало ли, спорит! Вот, допустим, был бы у меня старший брат, да уехал далеко…
Отец молчит. Слушает.
– Он, значит, уехал, а родители мне не сказали! В смысле, не мне, а Кустуру. И не знаю я, в смысле, Кустур, о своем родном брате ничегошеньки! Это по обычаю, или как? По закону?!
Отец встал. Встал, не вскочил. А мне почудилось, что вскочил. Аж мурашки по хребту! Точно я голову простудил. Папа чорон на столик поставил, а как по мне, так в угол зашвырнул. Доху соболью свернул, уложил на лавку, а вроде и на пол бросил. Лавка стоит, а будто упала. И в животе у меня ледышка – тает, течет.
– Если по закону, – отец смотрит на меня. Раньше он никогда так не смотрел, словно впервые увидел. – Если по обычаю, то младший должен сидеть на заднице ровно! И не думать, что он умнее всех!
Он нависает надо мной:
– Купить отца решил, щенок? На кривой объехать?! Законы-обычаи, Кустура приплел! За идиота меня держишь?
– Папа, я…
– Молчать! Если по закону, так не твое собачье дело! Если по обычаю, так засунь язык знаешь куда? Семью он вспомнил! Младшие, старшие… Мать до слез довел, мерзавец!
И по уху меня – тресь!
Плохой папа. Плохой папа.
Очень плохой папа.
Встаю. Нависаю над ним. Я большой, он меньше. Я старший? Если большой? В кулаке хрустит. Это Омогой, его шея. Нет, не шея. Откуда в кулаке шея? Это чорон. Зачем я взял папин кубок? Зачем сломал? Кубок маленький, весь в кулак поместился. Обломки колючие. Папа ругаться будет. Я младший. Я виноватый.
Хороший папа. Хороший папа.
Очень хороший.
– Извини, – говорю. – За кубок.
– Ладно, – машет он рукой.
– Я нечаянно. Я не хотел.
– Ерунда. Это к счастью.
– Что к счастью?
– Посуда. Посуда бьется к счастью.
Отец садится на лавку. Забрасывает ноги на перила. Я укутываю ему ноги дохой. Иду на кухню за новым чороном. Приношу, наливаю кумыса. Доверху, с шапкой пены. А что? Обычное дело.
«Обычное дело, сильный,» – соглашается мертвый Омогой.
2. Кто рожден – уйдет
Хорошо, что я еще не вырос. Был бы взрослым, пришлось бы на похоронах всё время торчать. Мне папа объяснил, когда успокоился: три дня – три обряда. Первый – от кончины до выноса тела. Второй – погребение. Третий – поминки. Да, еще меры предосторожности от злых духов. Я отца, кажется, и не слышал вовсе, а надо же! – запомнил. Воочию увидал: прихожу я, значит, стою у могилки. Гляжу, как шаман Араман кладет покойнику восемь ребер кобылятины да четыре берестяных лукошка с маслом. Не шагать же бедняге на тот свет впроголодь? Жду, пока могилу бревенчатым срубом обнесут: дом без окон, без дверей! А Омогой из-за плеча берет и спрашивает: «Что, сильный?» От одной мысли об этом становилось зябко, даже на солнцепеке. Заору, небось, при всем улусе, опозорюсь навеки.
Я чувствовал себя виноватым. Ну да, Омогоя убил не я, а Мюльдюн. Ну да, случайно: силу не рассчитал. Ну да, Омогой сам меня бороться вызвал, сам Мюльдюна разозлил. Так вот нудакаешь, разбираешься, и выходит, что я ни при чем.
А всё равно виноватый.
Я ушел со двора в дом. Долгое время бродил по комнатам, натыкаясь на лавки и углы. Больно зашиб колено и обратно во двор вышел.
– Юрюн, – позвал меня кто-то.
За оградой стоял непривычно тихий Кустур.
– Там Сэркен Сэсен приехал.
– Зачем?
– Будет поминальную песнь петь.
– Для Омогоя? Нарочно для этого приехал?
Не верилось. Не та птица Омогой, чтобы ради него сам дедушка Сэркен приезжал. Дедушка живет далеко, в Нижнем мире, на берегу моря Муус-Кудулу. Там вода – огонь, прибой – ледяная шуга, песок – красней крови. А дедушка живет, сидит, пишет: пером орла на плитах гранита. И вот, понимаешь, все бросил, бежит бегом Омогоя воспевать!
– Не знаю, – смутился Кустур. На шаг отступил. – Зачем-то, наверное, приехал.
– Ты чего пятишься?
– А ты чего злишься?
– Я?
– Ты! Вон как раздулся!
– И не злюсь я ничего…
– Оно и видно! Дашь по шее, и лежать мне рядом с Омогоем!
– Я тебе? Дурак ты, Кустур!
– Дурак, да живой! Пойду я лучше дедушку Сэркена слушать. Зачем бы он ни приехал, а у нас похороны. Отчего бы и не спеть?
Он почесал нос и подобрел:
– Так ты идешь?
Поминать Омогоя должны завтра. А песню – сегодня? Впрочем, дедушке Сэркену виднее. Поминальные песни слушать можно кому угодно, даже детям. Пойти? Не пойти? Останусь, решат, что я и впрямь виноват. Кто прячется, тот и виноват.
– Иду.
По дороге мы с Кустуром молчали. О чем тут говорить? Когда мы пришли, люди уже занимали места на тюсюльгэ, выстраивали полукруг. Точь-в‑точь облава на певца! Впереди по центру – старики и старейшины. За ними, густой толпой – взрослые мужчины с женами. За ними – неженатая-незамужняя молодежь и воины. По краям – мы, мальчишки. Девчонки-то больше с семьями, с матерями. А мы – вроде как сами по себе.