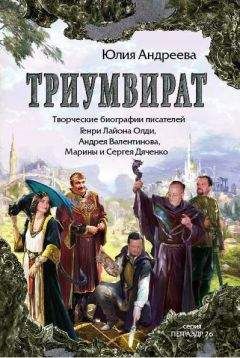Сильные - Олди Генри Лайон
Напротив людей улуса, многие из которых расселись прямо на прогретой солнцем земле, лицом на восток устроился Сэркен Сэсен, почетный гость. Ему скамейку принесли, шкурами застлали. Я на дедушку глянул, аж вспотел. Шуба с горностаевой опушкой, шапка соболья с тремя хвостами; штаны с меховыми набедренниками… Это в летнюю-то жару! Мой отец снизу мерзнет, а Сэркен, должно быть, весь целиком. Впрочем, выглядел он еще вполне крепким, сидел прямо, не горбился. Борода седая, лицо морщинами иссечено, будто утес трещинами, а взгляд цепкий, острый, молодой.
У ног дедушки устроился Толбон со своим хомусом [10] – подыгрывать сказителю, когда тот петь станет. Я приметил, где родня Омогоя собралась, и потащил Кустура на другой край. Не могу я его родным в глаза смотреть! Не могу, и всё. Кустур не возражал. Мы как раз успели сесть между Чагылом и Никусом, когда Сэркен Сэсен встал со скамейки, и упала тишина.
Дедушка выпрямился и застыл. Никакой он нам не дедушка, ни мне, ни Кустуру, ни даже папе. А вот так стоит, и кажется, что дедушка он всем-всем, сколько ни собралось. Все три мира поставь на ладошку – чья ладошка? Дедушки Сэркена! Мне и впрямь почудилось, что он каменный. Порыв ветра налетел – даже полы шубы не колыхнулись. Одни глаза на лице живут, каждому в душу заглядывают.
Чуть запоздав, вступил Толбон. Чистые печальные звуки хомуса вплелись между слов, поплыли над головами к Верхнему небу. Путь душе указывали? Мир изменился, воздух сделался прозрачным до звона. Горы на горизонте, стена леса за ручьем – всё раздвинулось, отступило, а небо, наоборот, придвинулось ближе. Небо – и морщинистый лик Сэркена Сэсена.
Я видел, как наяву: вот тело Омогоя, завернутое в бересту, опускают в землю, головой на север. Ветер гуляет в кронах высоченных сосен. Лучи солнца, просеянные сквозь хвою, желтой пыльцой осыпаются на погребальный сруб. К запаху смолы примешивается терпкий аромат тлеющего можжевельника. Шаман Араман, звеня колокольцами и оберегами, окуривает могилу священным дымом. Бьет в бубен, гонит злых духов, кричит на них. Молчит улус. Молчат братья Омогоя, отец, мать. Молчит красавица Мичие. Держится, не плачет.
Хорошие у Омогоя похороны.
Когда дедушка закончил петь, в небе долго таяло эхо его слов и хомуса Толбона. Люди забыли дышать – такая царила тишь. Позже мы зашевелились, словно просыпаясь. Разговаривали шепотом, расходились медленно, ступая тихо, как на охоте. Боялись разрушить умиротворение, снизошедшее на улус. Я тоже уверился: смерть – это еще не конец. Омогой родится заново, и в следующей жизни у него все будет хорошо!
Про три души я и раньше слыхал, только не придавал значения. Это же важно, да? Если души перепутаются или, скажем, одна из них потеряется – вдруг человек не сумеет родиться вновь? Останется куковать в мире духов? Говорят, отважные боотуры, погибнув в бою, уходят на Верхнее небо, в войско Илбис-Хана, бога войны. А остальные?
Пока я размышлял, все успели разойтись. Кустур меня звал, не дозвался. А я торчу столбом, голову ломаю. Про души, по-хорошему, надо сестру спросить. Она – удаганка, должна знать. Она все на свете знает! Наша Умсур даже мертвых оживлять умеет, если свежие, непротухшие. Жалко, что ее в улусе не было, когда Мюльдюн Омогоя зашиб. Оживила бы его… Теперь, наверное, поздно. Пока сестры нет, можно спросить у дедушки Сэркена. Он старый, мудрый – тоже, небось, знает.
Я тихонько подкрался к дедушке со спины. Обождал, боясь побеспокоить. Сэркен сидел на скамье, смотрел на горы – совсем как мой отец. А когда я уже решился открыть рот…
– Здравствуй, Юрюн.
Глаза у него на затылке, что ли?
– Здравствуйте, дедушка Сэркен. Хорошо ли доехали?
– Спасибо, не жалуюсь.
– Вы так здо́рово пели сегодня!
– Только сегодня?
Я нутром чуял: дедушка улыбается. А всё равно неловко.
– Вы всегда здо́рово поете! Но сегодня – особенно.
– Выкрутился, молодец.
Он повернулся ко мне. Он действительно улыбался. От его улыбки хотелось плакать. Ну да, поминальная песнь – не свадебная.
– Дорога была удачной, – сказал он, теснее нахлобучив шапку. – И нет, я приехал не ради Омогоя. Но ты ведь хотел спросить о другом?
Хуже нет, когда тебя видят насквозь.
– Я про души спросить хотел. Почему – три?
Остальные вопросы – тьма-тьмущая! – вылетели из головы. И хорошо, что вылетели. О главном спросил, а остальное – ерунда.
– Ты вырос, Юрюн Уолан, – дедушка молчал так долго, что я уверился: не ответит. И ошибся. – Пора тебе в Кузню. Там из тебя быстро вышибут лишнее любопытство. Не бойся, я шучу. Я люблю взрослые вопросы. Но сначала, если не возражаешь, спрошу я. Что делает человека – человеком?
– Что?
Я растерялся. Я думал, он рассказывать станет, а не меня спрашивать.
– Племя, – за меня ответил дедушка. – Давай, загибай пальцы! Племя, в котором ты родился. Земля, где ты родился. И ты сам, новый человек. Сколько пальцев ты загнул?
– Три.
– Очень хорошо. Теперь разгибай! Начнем с первого пальца. Отличный палец, длинный, очень полезный. Ты замечал, что дети обычно похожи на своих родителей? На дедушек с бабушками?
– Конечно! Вот, к примеру…
Старик остановил меня движением руки:
– Это дышит материнская душа – ийэ-кут, душа рода. Твой приятель Кустур родился человеком, ты родился боотуром, кобыла родилась кобылой, а озерный карась – карасем. Уловил дыхание ийэ-кут? Если она дышит полной грудью, в тебе может проснуться память предков. Обычно эта память спит, но сильный шаман способен ее разбудить.
– Сильный? Как моя сестра Умсур?
– Да, Умсур очень сильна.
– А в кобыле может проснуться память предков?
– Может.
– А в карасе? А в Кустуре?
– Твоя сестра сильна, а ты нетерпелив. Любишь перебивать старших, бежать впереди табуна. Скажу тебе по секрету: это тоже ийэ-кут. Боотуры все таковы, и не только в детстве. Я бы сказал, что боотур и есть детство.
– Я понял, – кивнул я.
Дедушка пожевал губами с явным сомнением: